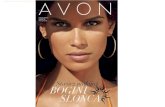ТЕАТРОН. 2012. № 1 (9)
description
Transcript of ТЕАТРОН. 2012. № 1 (9)

m=3�…/L =�=…=.
2012 1 1 (9)b/.%�,2 �"= !=ƒ= " �%�
p��=*�,%……= *%��� , , }*“C�!2…/L “%"�2:a=!K%L ~. l. (C!��“��=2�� }*“C�!2…%�% “%"�2=)a=!“%"= k. c.a%��=…%" h. `.c=��…���" b. m.j�,2,… q. q.j!=“%"“*,L ~. l.j3�,# `. o. (��="…/L !��=*2%!)Максимов В. И.l%�%�%%"= l. l.Š,2%"= c. b.0,K=�%"= q. h. (%2"�2“2"�……/L “�*!�2=!))�C3!%" `. `.x%! ~. l.
`�!�“ !��=*�,,:191028, C=…*2-o�2�!K3!�,l%.%"= 3�., �% 34E-mail: [email protected]
p��=*2%! e. b. l,…�…*%}“*,ƒ %K�%›*,, =*�2 , *%C62�!…= "�!“2*=`. l. h“=�"
o!, C�!�C��=2*� ““/�*= …= ›3!…=� %K ƒ=2��…=.
ISSN 1998�7099Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-47147 от 03.11.2011 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
I q=…*2-o�2�!K3!�“*= �%“3�=!“2"�……= =*=��, 2�=2!=�…%�% ,“*3““2"=, 2012
q=…*2-o�2�!K3!�“*= �%“3�=!“2"�……= =*=��, 2�=2!=�…%�% ,“*3““2"=
òåàòðîí

Содержание
Теория и методологияМаксимов В. И. Трагическая форма в театре Велимира Хлебникова ....................3
Историческая перспективаМолодцова М. М. Римская Академия Помпония: театральные мечтания и сценические опыты ..............................................................16
Некрасова И. А. Отцы-основатели театра иезуитов ...................................................25
Театр и драматургияЕвзлин М. Бунтующий бог в «Прикованном Прометее» Эсхила ...........................38
Юрьев А. А. Первый «Кукольный дом» ..........................................................................54
История спектакляТитова Г. В. «Горе уму», или «Комедия о хамстве» ...................................................70
Виды театраУльянова А. Б. Драупади, Сита и другие: женское сольное исполнительское искусство нангьяр-кутту ..............................89
МастераВивьен Л. С. <О «Заветах» Мейерхольда>Публикация, вступительная заметка и комментарии Ю. А. Васильева ........... 102

3
В. И. Максимов
Трагическая форма в театре Велимира Хлебникова
Пафос футуризма направлен прежде всего на разрушение любых стереотипов. На этой идее эстетика модернизма строится изначально, французский символизм разрушил многовеко-вую структуру поэтического текста, создав новую поэзию и новое мировоззрение. Но фу-туризм взялся за дело куда основательней — пересматривались все нормы жизни. Почва для этого к 1910-м годам была подготовлена.
Огромная научная литература о футуриз-ме — и прежде всего о русском — только под-тверждает отношение к нему как к явлению состоявшемуся и законченному, без реальных проявлений в сегодняшнем искусстве.
Оставив в стороне эволюцию и влияния футуризма в целом, отметим очевидную не-реализованность футуристического театраль-ного проекта. Это говорит не о несценичности футуризма, а о грандиозности его театраль-ной модели, строительство которой началось в 1910-е годы, а в 1920-е было насильственно прервано и в Италии, и в России. Более поздние попытки загнать футуристическую драму на традиционную сцену ни к чему не привели. Театральный футуризм, как и другие проекты модернизма, ждет своего часа.
Драматургия футуризма причислена к ше-деврам авангардной литературы. «Тем не ме-нее, — по точному замечанию Рудольфа Дуга-нова, — оценить драматическое произведение в полной мере все же нельзя, не испытав его на сцене»1. Говоря о «сверхдрамах» Хлебникова, Р. В. Дуганов констатирует: «Трудность тут прежде всего в том, что сценического образа хлебниковской драматургии мы пока не знаем и опы та ее театрального переживания у нас нет»2.
Как и в других художественных направле-ниях, драма стала вершиной, итоговой художе-ственной формой футуристических исканий. Все произведения футуристов по сути синте-тические. Каждый художник стремится выйти за рамки своего вида искусства. Даже слово
«пьеса» уходит из обихода футуристов. Ф. Т. Ма-ринетти, Э. Сеттимелли, Б. Корра, Ф. Канджул-ло создают «синтезы», В. Хлебников — «сверх-драмы».
Основным художественным приемом фу-туризма является «сдвиг». Принято говорить о «смысловом сдвиге». Прием по сути поэтиче-ский. Слова строятся таким образом, что в их звучании возникают новые слова, либо меняю-щие смысл, либо разрушающие его. Множе-ственность смыслов направлена, разумеется, не на бессмысленность, а на раскрепощение сознания.
Сдвиг происходит не только смысловой, но и формальный. Разрушаются законы формо-об разования. Обычные слова превращаются в «заумный язык». Таким образом не логика нарушается, а форма перетекает в другую пло-скость. На живописных полотнах воспроизво-дится не фигура, а движение, разрушающее фигуру. Персонажа на картине нет, потому что и в обыденной жизни нет статичных предметов, все движется, все размыто, все растворено в кон-тексте.
И еще важнее сдвиг, который происходит между художественной реальностью и обыден-ностью. Для чего футурист эпатирует зрителя? Для того чтобы зритель начал свое действие, свой перформанс, свою игру. Так произведение выплескивается в жизнь. А повседневность футуристов насквозь театральна. Художествен-ным произведением является не только полот-но или стихотворение. Ежеминутное существо-вание футуристов становится художественно организованным актом. Жизнь превращается в произведение искусства.
Одна из главных идей футуризма — ис-чезновение человека, замена его механизмом. В этом одна из причин актуальности футуриз-ма. В канун Мировой войны от ренессансного человека уже ничего не осталось. Вопрос в том, что пришло ему на смену.
Вместо разнообразных вариантов «пре-одоления» человека футуризм предложил

Театрон [1•2012]
4
вообще от него отказаться. Эпатаж этой прямо-линейности (как и любых идей футуризма) был очевиден. Человек отрицался не вообще, а в каж-дой отдельной ипостаси.
Так, отрицался поэтический культ жен-щины. Вместо любви — животное начало, вместо идеализации женщины — отрицание любых проявлений женственности. Эпатажная сторона дела — в насмешке над общественным и культурным обычаем. А по сути было дове-дено до прямой реализации давнее желание эмансипации — равенства полов в новых об-щественных условиях. Нет женственности вооб ще — какое же еще нужно уравнивание. Исчезает и мужчина, и женщина — вот вам и желаемое равенство полов, всеобщее эгалите. Это уже потом, когда эмансипация стала не революционной идеей, а общественной нормой, возникла противоположная тенденция — по-строение самостоятельных гендерных миров. Новая общественная модель, воплощенная в параллельном развитии «патриархального» мира и «матриархального». Возможно, поэтому футуризм с его глобальностью в современном обществе уже не находит места.
Разрушение границы полов, разрушение противопоставления материи и духа, тела и вну-треннего мира — основа и эпатажа футуризма, и новой художественной модели.
Но в отличие от символизма, конструкти-визма, «театра жестокости», исчезновение че-ловека в футуризме имело не трагический ха-рактер, а задиристо-игровой. По крайней мере поначалу.
Особенно ярко проблема исчезновения человека выразилась не в произведениях жи-вописи или поэзии — мало ли их было без участия персонажей и характеров, — а в театре, где воз-никает еще и вопрос актерского мастерства.
«Человек как таковой растворяется, рас-пыляется в предметном мире, становясь вещью, телом-объектом — неким артефактом, экспони-рующимся в сценическом пространстве»3, — констатирует исследователь очевидную вещь. А далее следует вывод, показывающий соот-несенность этой тенденции с общим новатор-ским процессом: «Футуристический театр во-плотил многие принципы, заложенные актером и теоретиком театра Г. Крэгом. Он одним из первых заметил, что человеческое тело по сво-ей природе не может служить материалом ис-кусства»4.
Это не вполне так. Крэг, обосновавшись к тому времени в Италии, не мог пройти мимо столь яркого явления и всячески футуристов поддерживал. Однако, если Крэг добивался преодоления человеческого субъективизма, слишком человеческого — ради сверхчеловече-ского мироощущения и актеров, и зрителей, футуристы оставляли голую механическую схему. С Крэга начинается поиск театрального воплощения ницшевского сверхчеловека, про-долженный Арто, Виткевичем, экзистенциали-стами, Гротовским. В художественном плане речь идет о создании универсальной знаковой системы, вскрывающей для зрителя внебыто-вую сущностную реальность.
Ничего подобного нет в футуризме. Здесь нет сущностной реальности, кроме самого ху-дожественного мира, исключающего связь не только с реальностью социальной и индиви-дуаль но-человеческой, но — подчас отрицаю-щего само понятие мимесис. Тенденция симво-листская и футуристическая в этом смысле противоположны.
Футуризм — один из вариантов концепции «бедного» искусства — в смысле избавления от необязательных метафор и идеологических подпорок. Язык, который разрабатывает футу-ризм, — язык зауми, он и не должен быть по-нятен, не должен вносить ясность в решение каких-либо проблем. Искусство как таковое не служит какой-либо цели, оно самоценно. В отличие от искусства в эстетизме Уайльда, в представлении футуристов оно не влияет на жизнь и не перестраивает ее, а полностью по-глощает.
В футуристическом театре решительный отказ от актера связан прежде всего с неудо-влетворенностью актерским профессионализ-мом в традиционном театре. Грубо говоря, ак-теры играют себя, поэтому «перевоспитать» их не представляется возможным. Профессио-нальный актер футуристов вообще не инте-ресует. Э. Прамполини, Ф. Деперо, Дж. Балла стремятся актера (в том числе дягилевской труппы) замуровать в такой немыслимый ко-стюм, что все исполнение сводится к борьбе с реальными обстоятельствами. Когда это не приводит к заметным результатам, следует от-каз от актера как такового. Никакой актерской программы ни итальянский, ни русский футу-ризм 1910-х годов не выдвинули. И только Игорь Терентьев взялся за формирование фу-

Теория и методология
5
туристической труппы и принципов футури-стического актера.
Драматическим персонажем становится предмет, вещь. За отсутствием человека в кон-фликт вступают реалии. Иногда это абстракции Деперо и Балла, различающиеся только по цвету и объему. Иногда — предметы, нарисо-ванные Павлом Филоновым на щитах, которые выносят невидимые исполнители (спектакль «Владимир Маяковский 1913 года»). Иногда — множественность лиц, изображенных на костю-ме вместе с предметами, определяющими функцию персонажа (Почтмейстер — это пись-мо), как в спектакле И. Терентьева «Ревизор» (художник П. Филонов, 1927 год).
Футуристы стремятся «оживить» предмет, стирают грань между повествовательностью живописи и драматизмом театра. И, наоборот, театр утрачивает телесность. Исследователь прав, когда приходит к выводу: «Футуристи-ческая образность порой намеренно анти-физиологична»5. Более того — всегда анти-физиологична. Футуристический образ явно противопоставляется телесности и натурализ-ма, и модерна, и — в будущем — биомеханики. Когда Мейерхольд говорит в своем «Ревизоре» о вытеснении телесности механизмом, его ма-териалом и его героем остаются человек и его тело, равное его душе, т. е. содержание и сцени-ческие приемы противоположны футуризму.
Исследователя сбивает с толку уподобле-ние Мейерхольдом тела актера механизму, использование технической лексики. «Тело актера является материалом сценической игры, а „телесный дренаж“ определяет суть новой системы, в которой тело — это машина, актер — „работающий машинист“, режиссер — изобре-татель и программист»6. Однако весь мейер-хольдовский механицизм — чистая метафора, призванная показать, что управление актер-ским аппаратом может быть таким же четким, как управление машиной. Эстетика театра Мейерхольда, как и тело-иероглиф в театре Арто, была направлена на приравнивание тела к глубокому внутреннему миру, выражающему коллективное бессознательное.
Здесь трагизм переходного состояния нового человека между утраченным гармонич-ным человеком гуманистов и заоблачным сверхчеловеком был очевиден. Не персонаж, а актер был носителем этого трагизма. Задача театра — рождение «нового человека», и вы-
текающие из этого задачи актера были оче-видны.
Иное в футуризме. «Анатомическая це-лостность тела в трагедии „Владимир Маяков-ский“ окончательно разрушена, его энергия сведена к нулю, и потому оно не поддается вос-становлению»7. «Владимир Маяковский» — редкий в футуризме случай конфликта челове-ка и бездушного мира. Отсюда — трагедия. Но трагедия, доведенная до схемы. Схематична и внутренняя раздвоенность героя. Скорее это разрушение трагедии, антитрагедия. Зато Мар-киза Дэзес и ее Спутник в трагедии Хлебникова «Маркиза Дэзес» ощущают себя нагими, сбра-сывающими одежды, а оказываются — окаме-невшими. Отыскать позитивное начало в теа-тральной эстетике футуризма не так просто.
1. «Девий бог»Сценические явления футуризма можно
пересчитать по пальцам. Обширная драматур-гия футуристов, практически исчерпывающая-ся произведениями русских авторов, и обшир-ная исследовательская литература — и русская, и итальянская — дают мало возможностей для сцены и существуют только как факт литера-туры. Р. В. Дуганов писал о Хлебникове: «…мы в нашем восприятии и переживании, как пра-вило, вовсе не отличаем не драматические его произведения от драматических, с их особым методом и особой концепцией, принципиально отличающимися и от эпоса, и от лирики»8.
В разнообразной драматургии Хлебнико-ва нет традиционного героя, но есть трагическое мироощущение. И то, и другое он наследует из пьес символизма. «Как раз символистский принцип драматического действия на грани двух миров — мира „явлений“ и мира „сущно-стей“ (с такой парадоксальной убедительно-стью воплощенный, например, в „Балаганчике“ и „Незнакомке“ Блока) — и порождал ту фан-тастическую атмосферу иронии и трагизма, смутных предчувствий и апокалиптических пророчеств, таинственных превращений, стран-ных загадок и еще более странных отгадок, какая царит в его драмах и драматических по-эмах того времени»9, — справедливо пишет Р. В. Дуганов.
На принципе двоемирия построена пьеса «Маркиза Дэзес». Причем оживший мир ве-щей позволяет героям перенестись в иную реальность: «Тебе не кажется, что мы сидели

Театрон [1•2012]
6
на прекрасном берегу, прекрасные и нагие, видя себя чужими и беседуя?»10.
Драматическая поэма «И и Э» также под-разумевает двоемирие, но здесь сюжет отсыла-ет к глубокой архаике, к возникновению чело-века, к ритуальной первооснове. Драматическая структура здесь связана с мираклем. Подзаго-ловок пьесы «Снежимочка» — «Подражание Островскому». Во многих пьесах — скрытые цитаты из Вячеслава Иванова, Ремизова, Бло-ка, Сологуба. Это один из приемов, введенных в драматургию футуризмом: пьеса — некий лабиринт цитат, выстраивающих самостоятель-ный художественный мир. В этом смысле трагизм соединяется в футуризме с иронией.
И все же на первом этапе — это футури-стические интерпретации чужих (в основном символистских) моделей. Р. В. Дуганов относит к футуристическим только две пьесы этого времени: «Дети выдры» (1912) и «Мир с конца» (1913). В них главной темой становится дви-жение во времени. В первой взаимодействие двух персонажей протекает на фоне эволюции Вселенной. Во второй — открывает драматур-гический прием (до драмы выдвинутый Алек-сеем Крученых), по которому судьба героев развивается последовательно от смерти к рож-дению. Здесь-то и проявляется глубокая тра-гическая структура: судьба героев задана в са-мом начале, т. к. это последний эпизод их существования; и рождение героев так же не-отвратимо, раз они умерли. Так тема античного рока преобразуется в почти фарсовой модели.
В этих и других пьесах воплощен еще один великий эстетический принцип — стремитель-ность сюжета, его краткость и напряженность. Символистская драма ввела микроскопический объем пьес, ограничиваясь одной только фабу-лой и принципом статичности. Футуризм сделал следующий решительный шаг после возникновения «новой драмы» — он преодолел литературу, предложив пьесу-сценарий, кото-рая существует только в форме спектакля, а не сама по себе. В этом недооцененность Хлебни-кова, других футуристов, обэриутов. В этом приговор «литературной» драме, в том числе «новой». В этом возвращение к насыщенности перипетиями, которые должны развернуться в сценическом пространстве. Этим путем пой-дет театр дада, сюрреализма (например, «Кро-вяной фонтан» А. Арто), а позднее — абсурдиз-ма и постмодернизма.
Обозначить жанровое своеобразие пьес Хлебникова невозможно иначе, чем понятием «сверхдрама». Вполне исчерпывающим выгля-дит определение Р. В. Дуганова: «Сверхдрама мыслилась в виде такой открытой структуры, куда принципиально могли быть включены в качестве строительных единиц сколь угодно разнородные произведения… Этот жанр явился естественным завершением и оформлением той изначальной идеи множественности, которая так или иначе присутствует во всем драмати-ческом творчестве Хлебникова»11. Исследова-тель отмечает единение поэтического, драма-тического и эпического (мифологического) начал в пьесах Хлебникова.
Трагедиями их назвать нельзя. Ранние пье-сы «Маркиза Дэзес», «Ошибки смерти», «И и Э», «Ночной обыск» в той или иной степени со-держат трагическое в символистском понима-нии и воспроизводят структуру символистской трагедии или ее элементы. Собственно футу-ристическая структура возникает в других пьесах. Р. В. Дуганов показывает это на при-мерах пьес «Госпожа Ленин» (1909–1912), «Гибель Атлантиды» (1913), «Аспарух» (1908–1913). Причем последнюю Дуганов называет трагедией, а ее героя — трагическим героем.
Нам же необходимо увидеть трагическое именно в футуристических структурах. Для анализа возьмем пьесу «Девий бог» (1908–1911) — не самую известную у Хлебникова, но именно ее художник-поэт-трансфурист Сергей Сигей называет «крупнейшим драматическим произведением Хлебникова»12.
Это редкий случай большой пятиактной драмы, что не исключает «сценарности» текста, колоссальной насыщенности действием и, как мы увидим, необычайного построения кон-фликта. Язык здесь не столько заумный (к этому сводятся претензии к пьесе А. Крученых), сколько фольклорный, полный архаизмов. Персонажи также отсылают к русскому фольк-лору, древнерусскому быту и, еще очевидней, к театральной стилизации типа «Снегурочки» А. Н. Островского. Но это не имеет определяю-щего значения.
Пьеса начинается с диалога дочери князя Солнца Молвы и ее матери княгини (боярыни) Гордяты. Молва просится сходить за водицей — напоить коровушек, однако при этом надевает на себя жемчуга, чем сразу же вызывает подо-зрения. Только дочь уходит, выясняется, что

Теория и методология
7
явился в город Девий бог, который смутит де-вок, да и не только их, и принесет страшные несчастья. Княгиня дает тщетные указания, как ему противостоять, но это только для того, чтобы накалить обстановку. Итак, на первой же странице обозначен конфликт: молодые и стар-шее поколение; новая сила, которая меняет мировоззрение, разрушает старый мир. Далее — развернутый текст Женщин, предрекающий конец света: «Уж не последние ли времена пришли?» (Т. 4. С. 130).
С этой большой реплики, произносимой Женщинами, в пьесе появляется хор как пер-сонаж. Он не близок экспрессионистическому принципу полилога, так как содержит не про-тиворечие, а единство, общее состояние, вы-раженное повторами, рефренами, иносказа-ниями. Хор будет обозначаться по-разному: Толпа, Люди и даже Хор присутствующих. Это потому, что вскоре появится еще один хор — Посторонние поющие. Таким образом, автором заявлены два хора, точное распределение их — дело постановщика. Функционально один хор выполняет ту же роль, что в античном театре, — комментарий действия изнутри, от лица обоб-щенного персонажа, максимально близкого мироощущению зрителей. Другой хор находит-ся вне конфликта и комментирует действие как бы со стороны.
Не только девки, но и женщины в пьесе возбуждены явлением голубоокого девичьего лиха. Развитие внешнего конфликта приводит к разделению молодцев на два враждующих лагеря: братья защищают Девьего бога, женихи стремятся его убить. Процессия, возглавляемая богом, эмоционально описывается хором (Смо-трящаяся толпа!). «Описание» прерывается возгласами той же толпы («куда, куда?», «кру-житель, кружитесь!» Т. 4. С. 132). Как это сконструировать на сцене — задача режиссера. В тексте пьесы ремарки относятся только к дей-ствиям отдельных персонажей.
Молва радостно приветствует присоеди-нение матери и персонажей ее поколения к ли-кующей толпе. Кроме того выясняется, что среди адептов Девьего бога еще и «царская дочка» (как «царь» соотносится с «князем Солнца», в какой они иерархии — не проясня-ется). Опять-таки через реплики описывается война, разыгравшаяся на Перуновом поле. Девушки надевают латы и берут мечи, позднее хор Девушек превратится в хор Латниц (его
можно обозначить как третий хор, но, в отличие от первых двух, это не совсем хор — Девушки персонифицированы).
Тут происходит значительная перипетия: Гордята, видя такой пафос дочери, решается вступить в схватку на ее стороне и более не противится ее новой «вере». Следовательно, в конфликт должны включиться новые силы. Но прежде Посторонние поющие описывают битву в своем видении и поведение Девьего бога. Он — вне битвы, вне конфликта, стоит, улыбаясь и играя на свирели. Герой — возмож-но, главный герой пьесы — вне ее конфликта! По крайней мере до поры до времени.
Хор «описывает» завершение битвы (в ко-торой и Гордята принимает участие). Появля-ется новая сила — Главный жрец Перуна, перед которым склоняются все, в том числе и Девий бог, отдающий ему свое оружие — свирель. Хор «описывает» последствия битвы и приготовле-ние к суду «на осударевом дворе» (кто это? Князь Солнца? Царь? Или еще один государь?).
Второе действие (Хлебников не употре-бляет слово «действие», у него просто — «вто-рое») происходит, однако, не на государевом дворе, а перед храмом Перуна. «Знатнейшие русичи» Руд и Рох выносят из храма меч, ка-рающий лжецов. Руд и Рох появляются только для того, чтобы меч вынести. Далее следует стремительная сцена, в которой раб говорит неправду и убит мечом. Девьего бога спраши-вают: бог ли он? Он отвечает «да» — и меч не падает. Он отвечает: «Нет, я человек», — и меч опять не падает. Юноша по имени Молодые очи заявляет, что меч не священен, но меч разруба-ет его на части.
Сцена существенно меняет конфликт, делая его трагическим. Меч выражает не какую-либо божественную идею, а идею рока. И снова не случайно, что один русич зовется Рох, а дру-гой — Руд, что может быть связано с древнеин-дийским богом Рудрой, предшественником Шивы, олицетворявшим грозу и гнев. Явно не случайно здесь соединение Перуна, Руда — Ру-дры и Роха — рока.
Обычные люди подчинены року, но Девий бог вне классификации: он и бог, и человек. Жрец склоняется перед ним. Вместе с тем весь суд над Девьим богом построен как суд над Христом: он называл себя богом, но оказывает-ся, что не называл; он сын рыбака или казнен-ного раба. Когда Жрец понимает, с кем он

Театрон [1•2012]
8
имеет дело, он просит его уйти (тема Христа продолжена сюжетом «Великого инквизитора» Достоевского). Однако толпа требует казни, и Девий бог соглашается принять смерть.
Очевидно выстраивание сцены — как второе пришествие Христа. И разворот кон-фликта в сторону столкновения людей с роком, внешней изначальной силой. Девий бог вне этого конфликта. Но тут выясняется, что совсем не Девий бог.
Появляется еще одна ипостась хора — «Устремляющиеся из передней люди» — с ре-пликой «Что вы делаете, что вы делаете! Вы предаете смертной казни неизвестного, когда он бесчинствует на другом конце города. Он собирает толпы зачарованных девушек и поет и рассказывает о звездах, показывая рукой, и пляшет. Так они безумствуют вместе» (Т. 4. С. 140). И далее на возглас толпы «Ты не Девий бог!» Девий бог отвечает: «Ты прав, я не Девий бог!» (Т. 4. С. 141).
Это чисто футуристический прием — мно-жественность героя, обезличенность, относи-тельность любых однозначных определений. Кто, собственно, участвует в конфликте? И Мол-ва, и Гордята не имеют прямолинейных харак-теров, но они достаточно целостны, при жела-нии можно определить их сверхзадачи. Девий бог — новый герой, не укладывающийся ни в какую характеристику, ни в какую норму. Он вне конфликта — традиционного трагическо-го — людей и рока.
Однако многоликость Девьего бога впи-сывается в конкретные архетипы. Все второе действие Девий бог соотносится с Христом и его вторым пришествием. В реплике «Устрем-ляющихся…» он предстает в облике Диониса в сопровождении вакханок.
Действие развивается не в силу личност-ного поведения героя, а в силу заданной схемы. Поведенческие схемы практически всех героев определяются литературными фабулами, даже просто набросками их, или архетипической моделью. Сталкиваются и развиваются в кон-фликте эти фабулы-схемы, вызывающие бес-крайние ассоциации в зрителе. Какие постано-вочные возможности открывает подобная пьеса-сценарий!
По этому же пути пойдет вскоре драма-тургия сюрреализма. Эти приемы по-своему будут использовать экзистенциализм и абсур-дизм.
Реплики звучат как ремарки, описываю-щие поведение других персонажей как бы на другой площадке сцены («рассказывает о звез-дах, показывая рукой», т. е. тут еще и звезды присутствуют).
И вот после признания Девьего бога, что он не Девий бог, — новый поворот действия. Девий бог «выскальзывает из рук и подымает-ся к небу облаком». Значит, над сценой все-таки небо со звездами, значит, Девий бог — все-таки бог. Казнь не состоялась. Люди столкнулись с другой реальностью, с множественностью миров. Какой бог истинный — не может быть ответа.
В третьем действии развивается конфликт Молвы с представителями старой веры. Анта-гонистами Молвы выступают княжич Шум (в начале братья вроде бы защищали девушек от женихов) и князь Солнца (впервые появив-шийся и вновь исчезнувший). Молва расска-зывает про «вакханалии» новых валькирий в Священной Роще. Вроде бы — уточнение прежнего — человеческого — конфликта. Од-нако в этом действии добавляется еще одна футуристическая черта — ирония. Это — в речи, в характеристиках. Происходит снижение об-разов, только что данных глобально, архетипи-чески. Молва о Девьем боге: «Это очень, очень милый молодой человек» (Т. 4. С. 143). Молва Гордяте, которая просит ее не идти на Свя-щенную гору: «Было бы странным…». И еще замечательнее единственная реплика Солнца и ремарка, к нему относящаяся: «Однако нуж-но принять меры. (Одевается и уходит)» (Т. 4. С. 144).
Какой-то набор штампов из банальной социальной драмы. А еще Молва угощает бога вишневым вареньем; стоя на часах, охраняя бога, вышивает.
Сперва Хлебникову надо было сконструи-ровать глобальные литературные фабулы, а те-перь он разрушает их короткими банальными характеристиками.
Во второй сцене третьего действия юноши составляют план убийства Девьего бога, но со-брались они с другой целью — переселиться в души предков, на 11 веков назад! Итак, сво-бодное перемещение во времени. Юноши остались на 11 веков позади. Девий бог несет новое понимание реальности (по ту сторону добра и зла), сложился двойной конфликт: старое — новое, люди — рок.

Теория и методология
9
Но при этом остается ирония. Председа-тельствующий и Остальные очень напомина-ют Председателя и Мистиков из «Балаганчи-ка» (блоковская сцена сама чрезвычайно иронична). У Блока: «Брат, тебе нельзя оста-ваться здесь. Ты помешаешь нашей последней вечере»13. У Хлебникова: «Мы решили пере-селиться в души наших предков. <…> Но при-шел он и смутил наш покой» (Т. 4. С. 145). Коллизия общая, а конфликты разные. У Бло-ка в первой сцене даже еще не конфликт — экс-позиция.
Четвертое действие. Священная Роща — валгалла. Спит Девий бог, окруженный Латни-цами и Молвой с баночкой варенья. Здесь Де-вий бог (который вознесся? Или другой? Или уже третий?) предстает в облике нового архе-типа — Актеона, превращенного в оленя и рас-терзанного собаками: «3-я латница: Но всмо-тритесь, не возникают ли на его голове рога, и не бежит ли он, преследуемый, бегом оленя» (Т. 4. С. 146). Облик Девьего бога решительно меняется: теперь он не бог вне конфликта, с нейтральной улыбкой, а влюбленный с цвет-ком подсолнуха, идущий за своей Луной (лу-на — космическая ипостась Артемиды). Латниц охватывают сомнения — они считают себя оставленными и хотят вернуться к своим близ-ким, — но сомнения преодолеваются, когда Латницы осознают свою подчиненность Року: «Ах, таитесь, девы, боязливо и страшно в страш-ном присутствии Рока. Вот молчаливо и про-зрачно светится он [Девий бог] на носу челна, предвещая страшное. И куда мы стремимся по волнам, не знаем» (Т. 4. С. 147).
Здесь впервые Рок назван своим именем. Внешний конфликт все время выворачивает к основной теме — противостоянию людей и Рока.
В огромном «монологе» хора Латниц про-исходит развитие внешнего конфликта во внутренний. Девушки следуют за любимым, а встречая сопротивление женихов, решают — каждая — убить жениха подруги. Постепенно оказывается, что это девушки поддерживают сохранение «всех людских законов», а не жре-цы. Конфликт нового и старого при соотнесе-нии его с роком (и осознании рока) перевора-чивается — высшие общечеловеческие принципы отстаивают, оказывается, девушки. Таким образом, внешний конфликт (связанный с роком) тоже сдвигается.
Итак, в четвертом действии тема рока в «монологе» Хора достигает трагического (внутренняя борьба) звучания. Естественно, этот «монолог», как и другие, предполагает визуальное параллельное действие, но оно никак не навязывается автором — ремарки имеют локальный характер, а место действия чрезвычайно обобщенное.
Самые удивительные изменения сюжета связаны с Девьим богом, который, приняв об-лик Актеона (в описании Латниц, но, возможно, и на сцене), превращается в трагического героя. Его, как и положено, преследует «лунная вои-тельница» (Артемида). Появляется новый персонаж — это дева, «прекрасная и лицом, и станом». В это же время «Артемида» опаляет своим пламенем протянутый ей цветок под-солнуха, а ее псы настигают Девьего бога. Его лицо искажено, он теряет божественный облик. Латницы клянутся отомстить, но, кроме того, хотят «отвратить неотвратимый удар страшно-го Рока» (Т. 4. С. 149).
Начальник дозора, который пришел за Девьим богом, чтобы отвести его на суд, тоже говорит о Роке, тяготеющем над Девьим богом. Теперь Девий бог, оказавшийся в трагической человеческой ситуации, отвергает суд.
Кажется, что в последних событиях кон-фликт достигает кульминации, но наступает пятое действие, и оно сдвигается в ином — за-гадочном — направлении.
Около половины заключительного дей-ствия — монолог Любавы. Главный вопрос — кто она? Ее можно расценивать как абсолютно нового персонажа, и эстетика футуризма до-пускает подобные подмены. Но если мы рас-сматриваем движение конфликта, Любава бесспорно продолжает линию Молвы. Измене-ние ее имени (тут же она фигурирует и как Зорелюба) связано с изменением ее функции, подчеркиванием иной ипостаси героини.
Любава читает письмо, в котором события предыдущего действия излагаются от лица той, что спалила цветок и заставила страдать Девье-го бога — т. е. Артемиды, «лунной воительни-цы». Оказывается — они подруги, и письмо такое бытовое, девичье. Снова переключение на бытовой уровень, как в третьем действии, но здесь эта ирония — лишь черта, не затмевающая общий трагический пафос.
Возможен и другой вариант: Любава пере-читывает свое собственное письмо. Тогда она —

Театрон [1•2012]
10
Артемида. Недостатком такого варианта явля-ется отстраненный взгляд на события прошло го действия, тогда как Молва была в самой гуще событий. Но даже при таком раскладе Молва — Любава продолжает единую сторону конфлик-та. А образ героини в любом случае меняется. Вероятно, сценически образы связываются ис-полнением одной актрисой.
Тем не менее это самый темный эпизод пьесы.
Далее Любава называет новое место дей-ствия — это уже не Священная Роща, а храм Черной смерти. Там-то и развернутся финаль-ные события.
Но сперва разворачивается сцена у под-ножия горы. Подробное описание действия дается самой Любавой (это все тот же монолог) эмоционально и противоречиво. Здесь много событий, но нам показана только реакция Лю-бавы, которая как бы мечется между действия-ми разного рода. Она устремляется к юноше, который никак не конкретизирован и которого Любава любит. Он мог бы быть очередным во-площением Девьего бога, но вскоре появляется сам Девий бог. В словах Любавы отторжение Девьего бога, влюбленного в нее, и влечение к юноше. Толпа предостерегает ее от опасности. Некая старушка устремляется к юноше, чтобы опередить Любаву, но в результате борьбы Любава оказывается первой и, как выясняется, целует юношу. Любава описывает ужас собрав-шихся и вспоминает обряды Чумноуста (так!).
Мы, зрители, еще не понимаем, что прои-зошло в сцене, описанной Любавой. Монолог на этом заканчивается, и Любава — Молва больше не появится в пьесе — она мертва.
Точный и краткий анализ пьесы делает Сергей Сигей. Однако есть моменты, требую-щие уточнения. Приведем отрывок из исследо-вания, в котором сформулирована сущность произведения: «В „Девьем боге“ возможно определить и завязку, и кульминацию, и раз-вязку, показать конфликтные ситуации, но это не поможет проследить действенные линии и связи. Дело в том, что в пьесе совершенно особая роль принадлежит ремарке. Она пре-дельно расширена и вообще замещает моно-логическую часть пьесы (произносятся персо-нажами как любой другой текст). Носители произносимой ремарки отделены от остальных и в самом действии пьесы участия не принима-ют. Собственно, множественное число здесь —
условность, ибо эти персонажи собраны в „Смо-трящую толпу“. Сюжет развивается чередова-нием диалогов, далеко не всегда подкрепленных действенностью происходящего»14.
Действительно, есть очевидная «разнесен-ность» сценического действия и текста. Но одно не «замещает» другое. Эти «монологи» уже не являются «ремарками», так как подразумевают сценическое воплощение. Но почему они вло-жены в уста персонажей? Потому что они «субъективны». Хлебников использует прием повтора действия. Описание событий в его репликах эмоционально, страстно — оно не ис-черпывает конфликта и не должно быть адек-ватно тому, что происходит на сцене. В этом Хлебников развивает законы именно режис-серского театра.
Произносящие монологи-ремарки от дей-ствия не отделены ни в коем случае. Возможно, они не носятся в этот момент по сцене, как остальные, но это не имеет значения. Действие происходит именно в монологе. Монолог Лю-бавы — это события не просто конфликта, но, вероятно, кульминации. И, как уже говорилось, хор в пьесе не один, а монологи-ремарки про-износятся не только хором, но и «солистами».
В этом смысле Хлебников возвращается к хорошо забытому принципу великих трагедий Шекспира: основные события конфликта про-исходят в монологах, а не в диалогах. Пять монологов Гамлета — это не постановка вопро-сов, а ответы на них, разрешение какой-либо проблемы и переход на следующий уровень конфликта.
Это относительно конфликта. А относи-тельно построения действия — Хлебников предвосхищает приемы экспрессионизма и эпи-ческого театра. Тексты хоров — не монологич-ны, они предполагают внутреннюю борьбу. Некий «внутренний конфликт» толпы выра-жается в репликах внутри «монологов», ко-торые как бы перебивают друг друга. Персона-жи описывают действия, «отстраняясь» от происходящего на сцене, — чтобы выразить свой комментарий, свое отношение к проис-ходящему.
Мы остановились на трагических событи-ях монолога Любавы и на ее смерти. Далее Хор эмоционально объясняет то же, что происходи-ло до этого. Хор оплакивает Любаву, которая отвергла Девьего бога, как здесь объясняется, — «побуждаемая Роком». Ее смерть — от поцелуя

Теория и методология
11
юноши, отравленного «лобзаньем Чумногуба». Теперь она «в руках жрецов» (Т. 4. С. 152). Двойная кульминация! Гибель героини из-за любви при осознании своей причастности року. Эта гибель — победа жрецов, создавших всю предшествующую ситуацию. Только здесь определяется внешний конфликт, возникший в самом начале: не абстрактные жрецы, не князь Солнца противодействуют Девьему богу, а жре-цы храма Черной Смерти / служители культа Чумногуба.
Только оплакивая гибель Любавы, Девий бог провозглашает себя богом и клянется ото-мстить за ее смерть. Личный и божественный планы героя здесь соединены.
На этом заканчивается кульминация, и раз-решение будет связано с борьбой двух миро-воззрений, двух культов, а не с полукомически-ми сражениями новых валькирий. Финальная сцена разворачивается в храме Чумногуба.
Сцена стремительно начинается страш-ным ритуалом — жрецы целуют чумные уста своего идола и приносят себя в жертву. Уми-рая, жрецы решают поцеловать Дев, чтобы увести их с собой в могилу. Девы не противят-ся, так как послушны Року. К Року взывают здесь и жре цы и девушки. Общий конфликт продолжает развитие. В нем участвуют и Девий бог, и «Артемида», воительница со своими гончими (она только в репликах хора, но это не исключает ее присутствия на сцене).
Главный жрец устремляется к Девьему богу, целует его, желая убить. Но Девий бог смеется, а жрец умирает. Эти события, описан-ные в «монологе» Хора, — лишь в воображении! Хор говорит: «Но нет, этого еще нет. Это еще только наше воображение» (Т. 4. С. 155). В за-ключительной сцене Хлебников использует принцип множественного финала. Символист-ская драма — от Стриндберга до Блока — осваивала этот принцип, но там он связан с множественной реальностью символистского мира. Здесь — именно инвариантность дей-ствия в одной реальности.
Гибель культа Чумногуба и победа Девье-го бога не означала бы трагической развязки. Девий бог в новом варианте развития действия. Хор рассказывает, как с одной стороны к Богу приближается жрец, раскрывший объятия, с другой — воительница с гончими. И в этот момент является третья сила — «цари». Веро-ятно, они связаны с князем Солнца и с царем,
но все равно — это некая новая сила, выпол-няющая в трагедии роль deus ex machine. Вме-сте с царями — лучники. Все они враждебны Девьему богу.
Но неожиданно лучники убивают жреца. А цари повелевают Девьему богу отправиться в изгнание вместе с Девами. Они предрекают, что их ждет светлое и чудесное будущее. Соб-ственно, только здесь Девий бог очевидно «пре-вращается» в «Диониса». А где же «Артемида»? Она пропала. Именно потому, что «Актеон» стал «Дионисом». Конфликт в футуристиче-ской пьесе развивается не по логике человече-ского поведения и эволюции характера, а по логике преображения архетипов и фабульных моделей. Архетипы и фабулы во многих пьесах трудно узнаваемы, но в «Девьем боге» они мифологизированы со всей наглядностью.
Девий бог принимает решение царей. Две столкнувшиеся в завязке силы: жрецы Чумногу-ба (имя которого обнаружилось только в пя том действии) и девы во главе со своим богом — по-терпели поражение. Жрецы погибли, латницы изгнаны. Остается новая сила — нейтральная. Молва погибла, Девий бог преобразился. От-правился закладывать основы будущей антич-ной трагедии.
Р. В. Дуганов, стремясь определить уни-кальность хлебниковского «сверхдраматиче-ского жанра», указывает на соединение законов лирики, эпоса и драмы. «Лирика открывает нам мир как личность, личное единство, эпос — мир как внеличное единство, в драме же мы непре-менно видим раздельность личного и внелич-ного…»15. В разных произведениях Хлебникова приемы эти сочетаются в разной степени. В ито-ге исследователь приходит к выводу, что «дра-матическая поэзия Хлебникова по существу есть самоотрицание драмы в ее стремлении к эпосу»16.
«Самоотрицание» драмы как ее понимали в XIX веке. Только с этим можно согласиться. «Сверхдраматическое» новое качество рожда-ется не в отрицании театра, а в понимании его изначальных возможностей и в достижении нового театра на основе мифа — в смысле ми-фологии, мифологической структуры, эпических приемов и архетипов. Разные формы соедине-ния мифа, античной трагедии и собственно теа-тра предложили в XX веке У.-Б. Йейтс, П. Кло дель. М. И. Цветаева, Б. Брехт. Сценические фор мы вызревали долго, но привели к высочайшим

Театрон [1•2012]
12
достижениям: А. Арто, П. Брук, А. Мнушкина, Л. Ронкони.
Помимо уникальной формы «Девьего бога» Хлебников ищет иные театральные мо-дели. В пьесе «Госпожа Ленин» (1909–1911) героиня противопоставлена всему враждебно-му миру и обречена на гибель. Основной сюжет разворачивается в ее сознании между разными человеческими чувствами и уровнями созна-ния. Здесь трагична сама ситуация. Тема и про-тивопоставление внутреннего и внешнего уров-ней конфликта сближают «Госпожу Ленин» с новым пониманием трагического в символизме. Но эстетика пьесы поразительно сходна с аб-сурдистской драмой, прежде всего с «Король умирает» Э. Ионеско.
Наиболее схематичная (можно даже ска-зать «традиционная») композиция трагедии дана в пьесе «Аспарух» (1908–1913), которую Р. В. Дуганов так и называет «трагедия», а героя ее — «трагическим героем». Шесть сцен на пяти страницах. Мифологической основой стала история, рассказанная Геродотом о царе скифов Скиле, его тайном служении Дионису и его казни восставшими соотечественниками. Хлеб-ников «соединяет» миф с историческим персо-нажем — ханом Аспарухом, который в VII веке вывел болгар с Волги и создал на Дунае Бол-гарское царство. В отличие от «Девьего бога» здесь на фоне столкновения двух мировоззре-ний герой стремится преодолеть судьбу, бро-сить вызов року.
Хлебников, как и всякий великий драма-тург, не ограничивается одной основной эсте-тикой. В его произведениях можно увидеть тенденции иных художественных концепций. Такова одностраничная пьеса «Хочу я» (1907–1908). Четыре персонажа — четыре реплики пьесы — говорят только на заумном языке. Каждый описывает то грандиозное зрелище, которое видит, — как в «Девьем боге». Долирь видит наступление утра и торжество природы, руководимой высшими силами. Внутри этой картины — «небак», плывущий на челне и играю-щий на свирели, — все тот же Лель — Дионис. Персонаж «я», наоборот, страшится враждеб-ного мира. Он ищет выход, но готов смириться с неизбежным. Ручьин горюет об утрате боже-ственного мира, тщетности сегодняшнего свое-го состояния. Теперь зреет план мести, и эта страсть захватывает природу. Четвертая корот-кая реплика принадлежит Всесущине: «Можеб-
ная страна велика и кто узнал рубежи?» (Т. 4. С. 260).
Пьеса заканчивается вопросом. Заявлены три противоречивых позиции, мироощущения. В последней реплике не итог — а признание равенства возможностей. Кто победит? По какому пути пойдет мир? Вероятно, по всем в разной степени.
Это не драма, это, скорее, пролог. Здесь заявлена неразрешимость конфликта. Реплики-действия персонажей не объединены общей задачей, они разорваны. Персонажи выражают состояния, и этим выражением и исчерпывает-ся их действие.
Все это сближает пьесу «Хочу я» с эстети-кой экспрессионизма. Председатель Земного Шара мог бы двинуться в этом — очень акту-альном — направлении. «Хочу я» замечательна своей эстетической целостностью, точностью средств выражения, эмоциональной напряжен-ностью.
2. «Зангези»Наиболее полной и сложной театральной
формы Хлебников достигает в «сверхповести» «Зангези» в самом конце своего творчества. Автор стремится к виду искусства, в котором соединяются и сохраняются как драматургиче-ская форма, так и повествовательная. В сверх-повести собраны 21 сцена, которые обозначены как «плоскости» и подразумевают, помимо развития, некий параллелизм действия. Мифо-логическая структура проявляется также в не-скольких уровнях — нескольких мирах, — в ко-торых происходит действие. Первый мир (плоскость I) — мир птиц, язык звукоподража-ния, разрабатываемый Хлебниковым во многих произведениях. Вторая плоскость «Боги» — здесь в сжатом виде передается действие пер-сонажей и сюжет пьесы Хлебникова «Боги» (закончена в 1921 году). Хлебников собирает в сверхповести наработанные ранее сюжеты, но ужимает их в несколько раз до неких схем. Третья плоскость «Люди» — здесь трое про-хожих заявляют героя сверхповести глазами обывателей, не понимающих героя и не осо-знающих глобальных событий.
А в четвертой плоскости цитируются краткие выдержки из «Досок судьбы», тогда же подготовляемых Хлебниковым к печати. Пло-скость отсылает к огромному пласту нумеро-логических творений Хлебникова, вычисляю-

Теория и методология
13
щих закономерности прошлого и предсказы-вающих будущее. Некоторые из них подписаны «Велимир Первый». Зангези — двойник ав-тора — или Хлебников превращал свою судьбу в миф.
Заявленные миры параллельны, но в даль-нейшем именно через Зангези они начнут пере-секаться и взаимодействовать. В кратчайшей пятой плоскости — язык толпы, обращающей-ся к Зангези и готовой стать полом его шагов. В этой толпе говорит Иволга (правда, ее не было в первой плоскости). В шестой плоскости начинается конфликт одинокого, тонкого, без-защитного, жертвенного Зангези с агрессивной обывательской толпой. Толпа раскалывается.
Первый большой монолог Зангези — пло-скость VII — это уже не нумерология, а линг-вистика («азбука»). История столкновений и смены букв. Эпоха Эр (Рюрики и Романовы) сменилась подъемом, всплеском борьбы Ка (Каледины и Колчаки) — но Хлебникову из-вестно и значение ипостаси души Ка в древ-неегипетской мифологии. А теперь Ка пало и выходит новая сила — Эль. Тот мир будуще-го, которому посвящены последующие моно-логи Зангези.
В монологах действенность уступает по-вествовательности. Очевидно, здесь требуются иные способы воплощения. Легко увидеть ки-нематографичность этих монологов, причем в духе кинохроники 1920-х годов. Наряду с бук-венным значением имен истории («Простран-ство звучит через Азбуку». Т. 5. С. 313) — имя героя драмы Зангези также указывает еще на один общекультурный источник. Это мифоло-гический Заратуштра и Заратустра из поэмы Ницше. Предварительные варианты имени (Энгвези, Чангези, Мангези) соединились с кал-мыцким словом «занг» — «весть» и отголоска-ми сюжета Ницше.
«Проповедь» Зангези в седьмой плоскости приводит к возмущению и агрессии обывате-лей. «Посушить мыслителя…» (Т. 5. С. 319) — это призыв к костру.
Однако в восьмой плоскости Зангези пере-ламывает ситуацию. Он переходит на «звезд-ный» язык, в котором к каждому созвучию даются поясняющие метафоры. Такой язык оказывается способным преобразить толпу. В девятой плоскости звездные песни поются под звон колоколов, превращаются в звукопо-дражания. Только здесь достигается единство
героя и толпы, звездного языка и языка птиц, музыки и проповеди. Кстати, девятая названа «плоскостью мысли».
В плоскости X действие движется дальше. Зангези пророчит будущее. Это мир «мога-тырей». Все неологизмы начинаются на Эм. А боги? Боги улетают. «Это Эм ворвалось в вла-дения Бэ» (Т. 5. С. 327). Это не только гибель богов, это и преображение толпы в сверхчело-вечество, осознавшее свои силы. Однако даль-нейший сюжет показывает другое.
В плоскости XI боги улетают как птицы, прощаясь по-птичьи. Народ в сомнениях. В две-надцатой — война азбуки уничтожает двойни-ков. Монолог Зангези в плоскости XIII — о рож-дении нового небесного воинства. Это люди, преодолевшие свой индивидуализм и преодо-левшие пространство:
В созвездиях босы,Там умерло «ты».<…>В потоке востока всегдава,Они улетят в никогдавель (Т. 5. С. 329–330).
Бесспорно, это пророчество о рождении сверхчеловеческого. Но монолог заканчивается гротеском: «ученики» требуют «камаринскую».
В четырнадцатой плоскости в диалоге с толпой продолжается тема гибели богов и выплеска природной стихии. Но на первом плане одиночество Зангези и его готовность к исчезновению.
Надо признать, что с момента обозначения конфликта текст существует как причудливая игра словесных форм, как литературная экви-либристика и формулирование глубоких мыс-лей. При этом конфликт статичен. Новые приемы не дают нового качества.
Это говорит о близости модернистской драмы 20-х годов к сценарию спектакля. Дей-ствие должно возникнуть на сцене на основе фабулы. И еще это говорит о спешке создания сверхдрамы и закономерной незавершенности. Хлебников осваивал новые формы и хотел со-вместить их друг с другом. Стремился довести до конца схему, но не обработать детали.
Пятнадцатая плоскость — монолог на звезд-ном языке с цветными метафорами. И агрес-сия толпы. Снова призыв к костру: «Поджечь его! Ты можешь что-нибудь мужественное?»

Театрон [1•2012]
14
(Т. 5. С. 333). Кажется, что сцены дублируют друг друга. Видоизменяется форма, использу-ются новые языковые приемы.
В плоскости XVI революционная масса изображена на манер блоковских Двенадцати. С еще большим натурализмом в звукоподража-нии. Но если у Блока — неопределенность оценки этого марша, то у Хлебникова — одно-значность характеристики. Революционная стихия воспринимается им как болезнь, «при-падок». В семнадцатой — Зангези на дальнем плане. Трое из толпы уходят. В их прощании бесконечная словесная игра. Дается новый мотив, но развитие происходит только в преоб-ражении слов.
Плоскости XVIII и XIX — огромный моно-лог Зангези. Он, вероятно, остается один. И рас-черчивает Доски судьбы, взвешивая события истории и деятельность исторических лично-стей. Кажется, время остановилось. Это под-тверждается и мыслью Зангези: он «разобрал часы человечества» (Т. 5. С. 342). Сам он пере-мещается в пространствах и временах.
Возникает впечатление, что этим полетом все заканчивается. Развязка нарочито отсут-ствует. Остается ощущение разорванности и не-разрешимости. Только здесь возникает под-линный трагизм. Трагедия идеи, не нашедшей своего воплощения.
Но есть еще две плоскости (XX и XXI), которым как бы не нашлось места в общей структуре. Однако именно в них — новое качество сверхдрамы. На сцене — в горах алле-горические персонажи. Горе и Смех читают Доски судьбы. Самое замечательное — их по-степенное сближение, осознание неразлуч-ности: «Ты кресало, я огниво!» (Т. 5. С. 351). Теперь уже Смех говорит о распаде времени и о движении к сверхчеловеку. На этом Смех умирает. В плоскости XXI люди читают в га-зете о самоубийстве Зангези из-за того, что Доски судьбы были уничтожены. Тут же вхо-дит Зангези с репликой «Это была неумная шутка».
Две великолепные сцены! Эпический ге-рой бессмертен, и эпический герой лишается пафоса. Положение традиционного одинокого героя, бесконечно повторяющееся в основных сценах, очищается смехом. Банальная фабула трагедии сменяется трагикомической двой-ственностью. Но, увы, этим сценам нет места среди предыдущих плоскостей.
«Зангези» — грандиозный проект футу-ризма, воплотивший идею тотального Творе-ния. Как и в «Livre» Малларме, это форма прежде всего театральная, но реализованная только в виде «литературного» текста-замысла. При очевидной незавершенности «сверхпове-сти» Хлебникова, она может расцениваться как завершение этапа футуризма, после которого весь мировой футуризм активно взаимодей-ствует с новыми историческими реалиями и воспринимает чужие художественные прин-ципы. В 20-е годы и в России, и в Италии на первый план выходят футуристы, державшие-ся до этого в тени основателей движения. (В теа-тре это Э. Прамполини и И. Терентьев.)
«Зангези» в какой-то степени заверша-ет то, с чего футуризм начался. В 1910 году Ф. Т. Маринетти написал по-французски роман «Футурист Мафарка» и издал его в Париже. Футуризм получил международную огласку. Издание романа в Италии привело к грандиоз-ному скандалу, суду над автором и оправданию, к началу триумфа Маринетти. По сюжету аф-риканский правитель Мафарка лишен предрас-судков цивилизации, расправляется со своими подданными со звериной жестокостью. Но именно природная его стихия пробуждает в нем начало творческое и стремление преобразить мир. Он создает механическую птицу Газурмах. Это сверхчеловек будущего вне пространства и времени (он всегда молодой, а Мафарка счи-тает, что современный человек должен навсег-да остаться молодым, лишая себя жизни). Но чтобы вдохнуть в Газурмаха жизнь, Мафарка должен отдать ему свое дыхание. Газурмах устремляется к звездам, оставляя гибнущую землю. Аналогии двух произведений очевидны, но характеристика главных героев противопо-ложна. Они оба пророки, но Мафарка во всех отношениях «по ту сторону добра и зла», а Зан-гези, прежде всего, страдающий и одинокий человек. Его абсолютное знание и прошлого и будущего только умножает его печали и из-бавляет от человеческих страданий.
«Зангези» — сверхдрама с трагическим героем в тотальной многоуровневой структу-ре — эпико-драматической. «Девий бог» имеет структуру трагедии, но без трагического героя. Конфликт движется не с помощью героев, а с помощью «хоров». Их несколько, и они вопло-щают не только столкновение масс, но и сбли-жение персонажей и зрителей (по типу антич-

Теория и методология
ного хора). Девий бог имеет несколько ипоста-сей и в некоторых из них проявляет трагиче-скую раздвоенность. Усложненность главного героя должна приводить к подсознательному отождествлению зрителя с главным героем. При этом Девий бог — мистериальный герой. Вся пьеса — становление нового человека, то есть преображение, очищение зрителя.
Зритель древней мистерии становился соучастником очередного повторения изна-чального мифа (обеспечивающего, например, наступление весны). У Хлебникова повторяет-ся миф о рождении бога. Эффект усиливается тем, что ряд заключительных событий «про-игрывается» несколько раз в различных ва-риантах.
Очищение зрителя происходит не за счет трагического познания героя и разрешения им конфликта, а за счет приобщения к рождению бога и преодолению «трагических» хоров. Соб-
ственно, все хоры сверхдрамы (все действую-щие группы) гибнут. Остается один нерешен-ный вопрос: отсутствие развязки, вариативность финала. И в мистерии, и в трагедии катарсис обусловлен неизбежностью развязки. Хлебни-ков разрушает эти законы. Открытый финал принципиален в новой драматургии Н. Евреи-нова («Самое главное», 1920), Л. Пиранделло («Шесть персонажей в поисках автора», 1921) и даже Б. Брехта («Трехгрошовая опера», 1928). Здесь зритель провоцируется на осмысление, выбор и поступок. Такая структура снижает возможность катартического эффекта. У Хлеб-никова подобный финал завуалирован. Не-обходимость интеллектуального осмысления и выбора зрителей еще не была актуальной в предвоенную эпоху, когда написан «Девий бог». Можно только восхищаться тем, что бу-детлянин Хлебников предвидел высшие до-стижения модернистского театра 1920-х годов.
1 Дуганов Р. В. Велимир Хлеб-ников и русская литература. М., 2008. С. 149. Разумеется, театр на бумаге невозможен. Драматур-гия порой обладает потенциалом, обнаруживающимся через века. А театральные трактаты могут со-держать экзистенциальную идею, воздействующую на театральных практиков куда больше, чем окру-жающий их театр.
2 Там же. С. 148.3 Сахно И. М. «Стратография
Тела» в футуристическом театре // Авангард и театр 1910–1920-х го-дов. М., 2008. С. 653.
4 Там же. С. 654.5 Там же. С. 657.
6 Там же. С. 656.7 Там же. С. 659.8 Дуганов Р. В. Велимир Хлеб-
ников и русская литература. С. 122–123.
9 Там же. С. 124.10 Хлебников В. Собрание сочи-
нений: В 6 т. М., 2003. Т. 4. С. 219. (Далее сноски на это издание при-водятся в тексте с указанием тома и страницы.) Эта грандиозная трагедия-миниатюра развивает эстетику Метерлинка, Рашильд, Блока — и лишь прозревает футу-ризм. Она скорее иллюстрирует органичную связь футуризма с символизмом, чем определяет эстетику футуризма.
11 Дуганов Р. В. Велимир Хлеб-ников и русская литература. С. 147–148.
12 Сигов С. В. О драматургии Велимира Хлебникова // Русский театр и драматургия 1907–1919 гг. Л., 1988. С. 98.
13 Блок А. А. Собрание сочи-нений: В 8 т. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 13.
14 Сигов С. В. О драматургии Велимира Хлебникова // Русский театр и драматургия 1907–1919 гг. С. 99.
15 Дуганов Р. В. Велимир Хлеб-ников и русская литература. С. 156.
16 Там же. С. 182.
Примечания

16
Начало европейскому ренессансному теа-тру было положено в конце XV века в Риме гуманистами, входившими в «Литературное Братство» (Sodalitas Litteraria — лат.), создан-ное в 1465 году по образцу церковных братств профессором римского университета (или Сапиенцы; Sapientia — лат.) Юлием Помпони-ем Лэтом (Летом), который вскоре переимено-вал в античном духе «Братство» в Акаде-мию. В 1468 году Академия была разгромлена, а в 1472 восстановлена, поэтому историки раз-личают в ее деятельности первый и второй периоды. Сохранилось мнение о том, что теа-тральные спектакли стали сразу практико-ваться на собраниях Академии, но докумен-тальных подтверждений этому нет, они относятся только ко второму периоду, начиная с 1483 года.
Юлий Помпоний Лэт (1428–1497), а точ-нее Юлий Помпоний Сансеверино (Giulio Pomponio Sanseverino), взявший себе академи-ческую латинскую фамилию Laetus, то есть «Счастливый», не был звездой первой величи-ны среди гуманистов зрелого Возрождения, хотя слыл настолько яркой ученой особой, что не только римляне, но и туристы — от палом-ников за знаниями до простых зевак — не по-зволили бы себе, побывав в Риме, не послушать аудиторной или публичной речи Помпония. И если Юлий Помпоний Лэт не занимал пер-вых мест среди современных ему философов или филологов, то он, безусловно, первенство-вал в деле возрождения в Европе классическо-го театра.
Юлий Помпоний родился на юге, недале-ко от Салерно, и его родной язык — неаполи-танский. Он был внебрачным сыном князя Джованни Сансеверино, который по обычаю тогдашних богатых помещиков равно опекал и законных, и незаконных детей. Отец умер, когда Юлию исполнилось только пятнадцать лет. Из-за злобного отношения к нему мачехи он оставил отцовский дом и отказался от своей
доли наследства в пользу единоутробного бра-та (братьев и сестер у него было много — свод-ных и двоюродных).
В 1450 году Юлий Помпоний переехал в Рим и принял римское гражданство. В уни-верситете он слушал лекции крупного гумани-ста Лоренцо Валлы, благодаря грамматическим сочинениям которого в ренессансной фило-логии упрочивается ориентация на Цицерона, на его лексику и грамматику. После смерти Валлы Помпоний занял его место на кафедре риторики. Но своим непосредственным учите-лем он считал Пьетро Оддо да Монтополи (иначе — Петра Монтопольского, ученика Ни-колая Кузанского), филолога, значительно менее знаменитого, чем Валла, составившего отправной для Помпония комментарий к Плав-ту и Теренцию. Оба древнеримских комедио-графа давали богатый запас разговорной лек-сики и соблазняли сценой.
«Литературное Братство» возникло из давнего университетского обычая собираться (из экономиии) на совместные ужины, при-правленные как учеными (изначально — тео-логическими), так и просто приятными непри-нужденными беседами. В «Литературное Братство» входили и коллеги, и ученики Пом-пония. Установлено, что их ужины бывали, как правило, вегетарианскими, изредка дополняе-мыми козлятиной и сладким печеньем, а на-питки — не слишком горячительными. Если и горячились до ссор, то не от возлияний, а от столкновения научных мнений. Академики соблюдали также благочестивый порядок. Все их собрания начинались с литургии и заканчи-вались молитвой.
Помпоний всем членам сообщества давал античные имена, а академики стали присваи-вать друг другу значимые прозвища, которые сейчас не всегда можно понять. Например, ясно, почему самого профессора звали не только Лэтом, но и прямо наоборот — Несчастливцем (Infortunatus). Понятно также, за что его про-
М. М. Молодцова
Римская Академии Помпония: театральные мечтания и сценические опыты

Историческая перспектива
17
звали Заикой (Balbus), а вот почему Сабину-сом (Sabinus) или Нумидой (нумидийцем: Numida) — неизвестно.
В 1468 году с Академией стряслась беда. Одного из членов братства по прозвищу Кал-лимах (Филиппа Буонаккорси, поляка, ко-торый впоследствии стал видным польским гуманистом; он был принципиальным неприя-телем Помпония) обвинили в организации заговора против папы Павла II. Было ли по-кушение реальной затеей, или только намере-нием, или за заговор приняли риторические инвенктивы против папы — не выяснено. Но появился донос, а за ним и суровые послед-ствия: аресты, допросы, заключение в тюрьме замка Святого Ангела. Часть членов акаде-мического братства разбежалась. Удалось бе-жать за границу и Каллимаху. Иные сумели быстро оправдаться, а иные (к ним принадле-жал и Юлий Помпоний, проведший десять месяцев в заключении) стоически выдержива-ли испытание. Павел II не свирепствовал. Ни-кто из обвиненных не был казнен. На допросах применялись минимальные пытки: только под-вешивание на веревке, пропущенной под мыш-ками, и бичевание. Арестованным разрешалось (подцензурно) читать и писать, получать с воли лекарства и пищу, а также общаться друг с дру-гом. Помпонию самыми тягостными показа-лись дни, проведенные в одиночной камере.
Кроме дознаний о заговоре, выясняли религиозно-нравственные провинности ака-демиков. Их обвиняли в сомнениях в суще-ствовании Бога, в неверии в загробный мир, в отрицании бессмертия души, а также в упо-треблении скоромной пищи во время постов, в пропаганде языческой ереси, например эпи-курейства, и, наконец, в содомии (в доносе значилось, что, восхваляя плотскую красоту, Помпоний не устает любоваться юношами). Пока шло следствие, гнев Павла II смягчился. Помпоний написал несколько оправдательных писем, в которых цитировал античных авторов (например, Сенеку), и был прощен. Он даже получил денежное возмещение в сумме двад-цати пяти дукатов.
(В дальнейшем, несмотря на всеевропей-скую известность, Юлий Помпоний жил бедно, постоянно нуждался в получении жалования, а профессорам Сапиенцы платили скупо, вы-давая деньги лишь трижды в год и не всегда полностью. Порою, совсем обделенный в уни-
верситете, он переходил на службу домашним учителем в богатые семьи, но потом возвращал-ся на свою университетскую кафедру.)
Следующий папа, Сикст IV, благоволил к Помпонию, и в 1472 году по его распоря-жению деятельность Академии была возоб-новлена.
В 1479 году Лэту довелось совершить не-долгое путешествие в «Скифию» (Scythiae — лат. Русь) и Сарматию (Польша), а позже, в 1483 году, побывать в немецких землях, после чего он до конца дней безвыездно жил в Риме.
Жизнь и деятельность этого гуманиста наиболее полно исследована русским ученым Серебряного века Владимиром Николаевичем Забугиным (1880–1923). Петербуржец по рож-дению, европейский интеллигент fine de siècle, католик, занимавшийся религиозными иска-ниями и принимавший участие в церковной жизни Италии, историк и филолог В. Н. За-бугин с 1907 года преподавал в римском уни-верситете итальянскую литературу эпохи Воз-рождения. В 1909 году он выпустил в Риме двухтомный труд, посвященный творчеству Помпония1. На основе этого сочинения в 1914 году он опубликовал уже в Петербурге на рус-ском языке однотомное критическое исследо-вание творчества единственного ренессансного гуманиста, побывавшего в России XV века. Свою русскую книгу В. Н. Забугин писал в па-мять об этом ученом, оставившем яркие впе-чатления от путешествия по Руси, недавно избавившейся от ига Орды: «Настоящая книга является „уплатой долга благодарности“ рус-ской науки перед единственным итальянским гуманистом, побывавшим на Руси»2.
В. Н. Забугин тщательно собрал «Скиф-ские заметки Помпония Лэта, изданные и не-изданные»3, разбросанные по разным лекциям римского профессора, и поместил их латинский текст в приложении к книге. Это замечательная работа, которая не может не вызвать благодар-ности сегодняшнего читателя. Творчество Помпония представлено в книге В. Н. Забуги-на целиком. Оно трактовано как образец дея-тельности ренессансного гуманиста, и сегодня можно руководствоваться доказательными со-ображениями исследователя и цитировать их.
О театральных занятиях Академии Пом-пония русский ученый пишет очень мало (лишь несколько фраз), справедливо сетуя на лаку-ны документации. Поэтому за театральными

Театрон [1•2012]
18
документами (немногочисленными) мы обра-щаемся к итальянскому театроведению конца ХХ века, в основном к сборнику документов, собранных Фабрицио Кручани4, который, есте-ственно, учитывает и римский труд В. Н. За-бугина.
Документы, сохранившиеся от Юлия Пом-пония Лэта, имеют по большей части беспоря-дочный вид, ибо профессор редко доводил свои труды до издательских кондиций и предпочи-тал устные формы творчества. «Ему доставля-ло больше удовольствия учить, нежели писать, по примеру Сократа и Иисуса Христа»5. Лек-ции, беседы, речи, семинары, наставления, споры, третейские разбирательства, прения, оппонирование, праздничные рацеи, спек-такли, застольные импровизации, экскурсии и т. д. — вот предпочитаемые им способы обще-ния с учениками и единомышленниками. Особенно славились его аудиторные занятия и перипатетические откровения о памятниках римской старины. На его экскурсии по Риму для студентов и гостей Сапиенцы сбегались такие толпы посторонних любопытных, что их приходилось разгонять. Профессор Лэт сам становился диковинкой Рима. И было на что смотреть.
«Источники согласно описывают нам Помпония маленьким, длиннощеким, с непра-вильными чертами лица, с маленькими, по всей вероятности близорукими глазами, запрятан-ными под широким лбом, но становившимися прекрасными, когда гуманист смеялся; волоса его, длинные и слегка кудрявые (против стри-жения волос он энергично протестовал), скоро поседели, на огорчение Лэта, никак не могшего примириться с сединой; зубы его были редки и плохи, что еще усиливало дефекты его речи. Дома носил он короткое полотняное платье, на улице синий или пурпуровый плащ, иногда надевал и шелковые наряды; обувался в высо-кие темно-синие сапоги6. На весь Рим славился „почти нумидийский“ тюрбан из белого полот-на, который гуманист носил дома почти кру-глый год „для сохранения здоровья“, с которым он изображен на ученической карикатуре»7.
Юлий Помпоний Лэт был ученым новой формации: «Он был живым, пытливым, всесто-ронним человеком, истинным сыном зрелого Возрождения, покинувшим „метод восторжен-ной интуиции“ первых гуманистов для строго-го научного исследования, но сохранившим
и в этом последнем способность увлекаться… При этом он всегда оставался искренним и рев-ниво оберегал свою полную свободу»8. Несо-мненны заслуги Помпония в области археоло-гии, этнографии и географии, особенно велик его вклад в топографию и этнографию Рима. Его постоянное ученое пристрастие — эпигра-фика. Он изучал и коллекционировал надписи самого разного происхождения и расположе-ния, включая катакомбы. Коллекция не сохра-нилась, так как в 1484 году дом Помпония был разрушен.
Природное заикание сообщало лекциям Помпония своеобразие, удобное для студентов. Борясь со своим недостатком, профессор читал лекции медленно, нараспев, благодаря чему ученики успевали их подробно законспектиро-вать. Кроме того, Помпоний, ставя целью не только вбить в голову учащегося классический текст, но и донести весь объем его смысла, не-сколько раз повторял и перефразировал одно и то же, присовокупляя свои комментарии. Обучение целиком шло на латыни, и не только потому, что изучались латинские авторы, но и поскольку литературным общеитальянским языком пестрая аудитория выходцев из разных мест Италии с их различными диалектами владела хуже, чем латинским языком, к тому же в ней находилось немало иностранцев.
В. Н. Забугин называет педагогический метод Помпония «антикварным»9. Добавим, что этот метод, вероятно, ферментировал хоро-водную театральную энергию академиков, на-копление которой должно было неизбежно привести их к постановке античных пьес, ибо лицедейство является наиболее естественным средством понимания (комментирования) драматургии.
Театральность, сходная со жреческой ис-товостью, окрашивала аудиторные занятия Помпония. Он начинал свои лекции рано, в пред-рассветные часы, и никогда их не отменял, не считаясь ни с грозой, ни с морозом. Когда он приходил с ключом и с фонарем, перед темны-ми дверями Сапиенцы уже стояла толпа. В ауди-торию профессор впускал всех желающих и оставлял дверь распахнутой, ибо те, кто не успевал занять скамьи внутри, слушали его, теснясь снаружи и при ветре, и при дожде.
Изучая развалины Рима, уточняя места расположения древних памятников, Помпо-ний давал их интерпретацию и на прогулках,

Историческая перспектива
19
и в аудитории. Вот какая картина древнерим-ского Большого цирка (Circus Maximus), пред-назначавшегося прежде всего для ристаний на колесницах, возникает в его лекциях по Варрону, согласно В. Н. Забугину: «По свиде-тельству древних, в цирке было двенадцать ворот, отделенных равными расстояниями от краев арены: поэтому следует считать, что всякая подробность игры имеет свой смысл. Так, цвета возниц (четырех соревнующихся команд. — М. М.) обозначают времена года; число ворот цирка — знаки зодиака; биги и квадриги — луну и солнце; equus desultorius (скачущий конь. — М. М.) — образ утренней звезды, возвещающей приближение солнца; белая полоса, шедшая по обоим подиям неда-леко от ворот для обозначения начала бега, — символ млечного пути; septem metae, то есть семикратный пробег вокруг цирка, говорят о совершенном числе дней недели; „Эврип“ (ров, канал, которым был окаймлен Большой цирк. — М. М.) — это море, в котором плавают дельфины; обелиски символизируют вышину небосклона. Вот как человеческое искусство подражает природе и как люди под видом игр выполняют религиозные обряды»10.
Понятно, что подобные комментарии должны были поражать воображение, внушать стремление на деле воскрешать античные зре-лища.
Занимаясь изучением надписей, Помпо-ний начал видеть в них не только самоценные памятники, но и к ключ к контексту культуры. Он и его коллеги могли также вообразить себя перенесенными в прошлые века и, вписывая, например, собственной рукой свои имена в крип-ты катакомб, перевоплощаться в роли античных христиан. Этим творческим содержанием над-пись «здесь был Помпоний» исторически рази-тельно отличается от мемориальных зарубок ротозеев наших времен вроде такой, как «здесь был Вася». Помпонианцы не раз обследовали римские катакомбы и оставляли в подземельях надписи углем, стилизованные под лапидарные античные изречения. В одной из ниш в убежи-ще св. Калликста стена так густо испещрена автографами академиков, что археологи на-звали эту крипту «помпонианской»11.
Вершиной реконструктивных начинаний Помпония явилось возрождение им античного праздника Палилий. Пала (или в мужском роде — Палес) — древняя пастушеская богиня
(божество, гений) — во время первой Пуниче-ской войны удостоилась (-лся) того, что ей (ему) построили храм. Во времена римской Империи Палилии праздновались как день основания Рима, потом праздник был забыт. Его и возродил Юлий Помпоний Лэт, устано-вив 20 апреля день рождения Рима (в ХХ веке это 21 апреля) и день самого главного в году собрания Академии.
«Ежегодно 20 апреля помпонианцы со-бирались утром в церкви… Литургия проис-ходила на Капитолии в базилике Santa Maria d’Ara Coeli на главном престоле в честь муче-ников св. Виктора и св. Фортуната… По окон-чании литургии один из академиков выходил на кафедру и произносил речь. В конце речи оратор с кафедры провозгласил академических магистратов на следующий год12. <…> Потом все перешли с Капитолия на Квиринал, где на счет братства была приготовлена у церкви S. Salvatore dei Corneli, то есть близ дома Пом-пония, а то и в нем самом „изящная трапеза“ за которой сидело шесть епископов и „множество ученых и знатной молодежи“13. <…> Собратья декламировали свои стихи, и готовилось вен-чание лавровым венком заслужившего успех поэта, а иногда и двух»14.
Если конкретных сведений о спектаклях Помпониевой Академии в более раннюю пору ее существования нет, то можно с уверенностью утверждать, что театральные постановки были непременной частью академических собраний на Палилиях. Возможно также, что сначала постановки античных пьес были локальными (аудиторными), благодаря же Палилиям, они выносились на более широкую, хоть и элитар-ную, публику. Правда, в памятной речи по по-воду годовщины смерти Юлия Помпония видный член академического братства Петр Марс (Pietro Marso, Марс, разумеется, прозви-ще) подчеркнул, что «на празднества Палилий с радостью взирает публика всех сословий»15.
В биографии Лэта, составленной в 1499 году его учеником и другом Сабеллико (это академическое имя Маркантонио Коччи да Виковари (1436–1506), ставшего крупным историком), возрождение классического спек-такля было поставлено в особо ценную заслугу учителя и связано с Палилиями.
«Более всего он почитал гения Рима и еже-годно праздновал день рождения Города с уча-стием многих ученых; и тогда же молодые

Театрон [1•2012]
20
студенты красноречия испытывали свои талан-ты, выступая с панегириками и другими хва-лебными сочинениями. С равным усердием он возродил в Риме, давно отвыкшем от этого античного обычая, спектакль, используя в ка-честве театра (курсив мой: выделены терми-ны, которые тогда могли относиться только к обозначению античных явлений; привычные же со средневековья зрелища называли терми-ном rappresentazione. — М. М.) атриумы двор-цов самых знатных епископов, исполняя там пьесы Плавта, Теренция, а также более новых авторов, чему он сам обучал благородных юно-шей и руководил ими во время этих представ-лений»16.
Модель спектакля Помпониевой Акаде-мии восстанавливается учеными17 по гравюрам, иллюстрирующим издания древнеримских комедий на рубеже XV–XVI веков. Это лион-ское издание Теренция 1493 года, немецкое издание Теренция 1496 года и венецианское издание Плавта 1518 года.
Так, «Девушка с Андроса» в лионском издании (гравер Jodoco Badio) иллюстрируется сценической картиной, изображающей про-сцениум перед четырьмя занавешенными порталами меж пятью легкими округлыми колоннами. На фронтоне каждого портала значится имя персонажа: Харин, Хремет, Хри-сид и Симон. Постройка напоминает одну из боковин перистиля, и можно предположить, что за занавесками расположены кубикулы (покои, комнаты) означенных персон. Перед кубикулами на просцениуме изображается эпизод, когда раб Дав передает Мизиде ребенка Гликерия и их замечает Хремет, который вы-глядывает из своей кубикулы (он высовывает голову из-за занавески под надписью «Хре-мет»). По позе Дава видно, что он собирается удрать. Сходные иллюстрации украшают и другие указанные издания. Такой тип сцены и принято считать академическим. Его условно называют также «сценой купальных будочек» (по-французски scene cabine, а по-немецки Badezelebuhne). По существу, сцена представ-ляет собой антикизированный вариант симуль-танно расположенных mansions.
Сложнее трактовать помпонианскую сце-ну в связи с иллюстрациями к венецианскому изданию 1518 года, ибо на них знакомая модель просцениума перед кубикулами дополнена видами за раздернутыми занавесками. Вряд ли
такие изображения можно привлечь в качестве свидетельства о попытках использования пом-понианцами живописи, тем более — театраль-ной перспективы (хотя ниже в цитате из Суль-пиция представление помпонианцами не позднее 1486 года какой-то комедии связыва-ется с aspetto della scena dipinta). Скорее всего, печатники учли театральные новшества 1508–1513 годов и озаботились не документальным отражением академических спектаклей, а укра-шением своего издания. Что же касается пред-ставлений в атриумах епископских дворцов, то, кроме стараний самого Помпония, в них вло-жено усердие двух его лучших учеников.
В 1486 году в связи с постановками «Эпи-дика» Плавта, «Ипполита» («Федры») Сенеки и публикацией комментированного трактата об архитектуре Витрувия особенно прославились помпонианцы Сульпиций да Вероли и Томма-зо Ингирами.
В науке Джованни Сульпицио да Вероли (Giovanni Sulpizio da Veroli, род. между 1430 и 1440 — ум. около 1493) особенно прославил своего учителя тем, что превзошел его как грамматик, а в театральных делах Сульпиций первым (и самым энергичным образом) воз-звал не к умозрительному возрождению антич-ного театра в качестве идеала, а к строительству в современном Риме витрувианского театраль-ного здания. Он это сделал в предисловии к изданию трактата Витрувия «Об архитекту-ре», обращенном к кардиналу Раффаэле Риа-рио, «племяннику» папы Сикста IV. Именно из этого предисловия мы узнаем о лучших по-становках Академии Помпония, в частности об «Ипполите», сыгранном не менее трех раз вне Сапиенцы: на площади перед дворцом карди-нала, в его атриуме и в папской резиденции — замке Святого Ангела.
Обращаясь к Раффаэле Риарио как к «ли-тературному собрату», Сульпиций написал: «В самом деле, ты был первым, кто наилучшим образом украсил сцену (palco), воздвигнутую посреди площади высотой в пять футов (cinque piedi) для трагедии, в которой мы первыми в этом веке (а ведь прошло уже много веков, как в Риме не видели спектаклей) преподали молодежи, чтобы вдохновить ее, как надо иг-рать на сцене (recitare) и петь. И после того <трагедия > была сыграна в доме Адриана в при-сутствии божественного Иннокентия (папа Иннокентий VIII. — M. M.), а потом еще ты

Историческая перспектива
21
принял ее в твоих пенатах наподобие того, как если бы она была представлена в амфитеатре цирка, по возможности укрытого тентом, при стечении публики и многих зрителей твоего ранга. Ты также первым показал нашему веку вид живописной сцены (aspetto della scena dipinta), когда помпонианцы играли комедию. И поэтому весь город ожидает от тебя с боль-шим упованием нового театра. <…> А тебе только и остается, что построить согласно ука-заниям Витрувия подобающее помещение, в котором всем обязанная тебе молодежь стала бы упражняться по праздничным дням в под-ражении древним в искусстве декламации поэм и в представлении пьес (favole) в честь богов, и пусть также там воспитывался бы и развле-кался достойными спектаклями народ»18.
Самым достойным из спектаклей помпо-нианцев стал «Ипполит» по Сенеке, осущест-вленный в 1486 году. В нем в роли Федры вы-ступил шестнадцатилетний студент Томмазо (Фома, Томас) Пьетро Ингирами из Вольтерры (Tommaso Pietro Inghirami da Volterra, ок. 1470–1516). Благодаря необычайному успеху в этой роли, имя мифической героини замени-ло его фамилию, Ингирами самого стали на-зывать Томас Федра (Thomas Fedra) или Фе-дро, Федрус (Thomas Fedrus Vulterranus).
Выпускник Сапиенцы, доктор теологии (получил сан прелата), оратор (проповедник), филолог, префект ватиканской библиотеки, актер и руководитель любительской (академи-ческой) труппы — Ингирами сделал блестящую карьеру. После смерти Помпония он в 1497 году заменил учителя на его кафедре риторики.
В дневниках ватиканского церемониймей-стера Иоганна Буркарда между 1491 и 1501 годами отмечалось, что вместе с тремя другими «непревзойденными» учениками Помпония — такими, как «Сабеллик, Марс и Липпо» (Ауре-лио Липпи Брандолини), — ежегодно на Пали-лиях выступал Ингирами. «Поэт Федра произ-нес достойнейшую проповедь», «Доктор Томас Федра — превосходный и особенный оратор, наивысших похвал достойный»19.
В письме от 27 марта 1501 года, приведенном Ф. Кручани, содержатся сведения о театральной известности «Федры» далеко за пределами Рима: «<Сим сообщаю>, что король Неаполя пригла-сил актера Федру с его школой для представ-ления комедий и эклог на свадьбе принцессы с герцогом Калабрии, назначенной на март»20.
Имя Ингирами появляется также в до-кументах в связи со свадьбой Лукреции Борджа с Альфонсом Д’Эсте: он был в числе поэтов, сочинявших эпиталамы. А папа Юлий II ценил Ингирами настолько, что завещал ему произ-нести над собой надгробную речь.
Другой знаменитый помпонианец Павел Кортезе (Paolo Cortese, 1465–1510), теолог и гуманист, превосходный полемист, которого считают зачинателем литературной критики как особой отрасли филологии (его трактат в диалогах «Об ученых мужах» (De Hominibus doctis, 1489) содержал критический обзор итальянской литературы от Данте до совре-менности), оставил отзыв о впечатлениях от постановки «Ослов» Плавта. Дату спектакля уточнить невозможно, поэтому его условно относят к 1510 году, то есть ко времени публи-кации главного труда П. Кортезе «О карди-нале» (De Cardinalatu) (аналогичного более позднему и более знаменитому трактату Б. Ка-стильоне «О придворном»), где этот отзыв со-держится в рассуждениях об ораторской тех-нике и, в частности, о жестах рук, что косвенно свидетельствует о том, что актерское любитель-ство в классическом стиле развивалось в то время путем перехода от риторической к сце-нической декламации. (В скобках заметим, что профессиональное (гистрионское) актерство этого времени было основано на площадном шутовстве и что пока между актерами профес-сионалами и любителями зияла пропасть.)
У Кортезе написано: «Наиболее верное суждение о характере можно составить из на-блюдений за жестами. Руки человека — это инструменты, которыми он пользуется во всех своих делах. Отсюда легко заключить, что по ним можно судить о различных скрытых мыс-лях. Поэтому нужно следить, чтобы руки не были слишком экспрессивно протянуты или необычайно размашисты; а при овладении ис-кусством жеста нужно иметь в виду, что самое недопустимое — это чересчур двигать пальца-ми; то есть нельзя, чтобы они были стиснуты вокруг большого пальца или растопырены сверх меры, нельзя ими вертеть, или тыкать, или сцеплять один с другим во время беседы.
По этим соображениям понятно, что даже в театре (in commedia) нужно критиковать всех тех, кто слишком часто двигает руками или во время декламации прибегает к жеманной игре пальцами. Томас Федро из Вольтерры, человек,

Театрон [1•2012]
22
который с юности мог бы достичь самого пре-восходного положения, если бы поиски гром-кой славы не увлекли его, толкнув предпочесть элоквенцию, во время представления „Ослов“ Плавта, устроенного на Квиринале по случаю праздника Палилий, мог бы, как говорится, удостоиться самых высоких похвал, надлежа-щих актеру, если бы не вынудил поскупиться на них из-за крайнего жеманства в жестах и вер-чения руками»21.
Другой гуманист, великий голландец Эразм Роттердамский, и в 1524 году, то есть через 38 лет после знакомства с Ингирами, вспоминал о нем прежде всего как об ораторе.
«Там <в Риме> я узнал и полюбил Пьетро Федро, знаменитого более речами, чем писа-ниями: в его разговоре было столь же красно-речивости, сколь и значительности. Большое счастье — прославиться в Риме. Сначала он стал знаменит в трагедии Сенеки „Ипполит“, в ко-торой сыграл роль Федры на площади перед дворцом кардинала ди Сан Джорджо; оттуда, как я узнал от самого кардинала, он и получил прозвище Федра. Он умер, если я не ошибаюсь, не дожив до пятидесяти лет, называемый Ци-цероном своего времени»22.
Славу Федро из Вольтерры продлил пле-мянник Ингирами Паоло Маффеи. Всей душой привязанный к дяде и унаследовавший его при-страстие к театру, Паоло после смерти Томма-зо в 1516 году взял себе его псевдоним и стал вторым Федрусом из Вольтерры. Поэтому, когда указывается на участие в 1520 году в по-становке братством Гонфалоне «Страстей Го-сподних», «переделанных в трагедию», таких любителей, как «Федро из Вольтерры и Фран-ческо Томмази из Сиены — знаменитейших людей нашего века: один оратор, а другой ку-пец»23, следует понимать, что данный Федро — Паоло Маффеи.
Ф. Кручани приводит письмо племянника к дяде, датируемое неопределенно между 1510 и 1512 годами. По нему можно судить еще об одном спектакле, к которому мог быть прича-стен Ингирами (косвенно — как наставник по-становщика и как возможный критик). Спек-такль, сыгранный в родном городе обоих, в Воль-терре, был поставлен в академическом духе, ибо играли какую-то (не названную корреспонден-том) древнеримскую комедию по латыни какие-то явно хорошо эрудированные исполнители. Постановщик называет их histriones, то есть
термином, который относили к профессиональ-ным актерам, но в данном случае термин мог применяться и метафорически. Из описания, однако, видно, что исполнители не только де-кламировали, но и обладали «миметической» комедийной техникой. Кем именно они были, неизвестно.
«Я бы желал, дорогой Федро, чтобы ты лучше от других, чем от меня узнал, как удалось проявить себя моим актерам (histriones), ведь если требуется судить о таких вещах, то это никогда не делается умеренно: выражают то сплошные похвалы, то чрезмерную критику, и обычно говорят одно, а думают другое. Но поскольку ты именно от меня хочешь узнать, как обстоят дела, то нужно тебя удовлетворить, и я ничего от тебя не скрою.
Комедия была показана 16 августа на площади в присутствии епископа и большой публики: наших мужчин и женщин, и многих приезжих. Сцена была построена на ступенча-том возвышении (scalinata) напротив дворца так хорошо и так хорошо украшена, что Марио <?> сказал, что и в Риме он никогда не видел лучше построенной и лучше украшенной сце-ны. Мне трудно выразить, как хорошо и как подобающе играли актеры: каждый из них действовал так, что его лицо и жесты отража-ли все, что он говорил, и таким образом даже люди необразованные могли все хорошо понять; само их появление, прежде чем они открывали рот, вызывало со всех сторон взрывы смеха (курсив мой. — М. М.). Что к этому добавить? Уверяю тебя, что не нашлось бы никого, кто после спектакля не смог бы сказать: вот сейчас и стоило бы умереть, ибо лучшего спектакля не увидать никогда!
Признаюсь тебе, что всякий раз, как я вспо-минаю этот день, я испытываю особую ра-дость, не только потому, что пережил счастли-вый и лестный успех, но потому, что все в один голос, согласно между собой, называют меня твоим последователем, и если бы это мнение ты сам мог бы разделить со мной, это было бы для меня более драгоценно, чем все сокровища Креза!»24
В театроведении имеются также верные сведения о спектакле «Пуниец» по Плавту, по-ставленном Ингирами в 1513 году в театре на Капитолии. Очевидцы сохранили яркие впе-чатления о постановке в целом, а особенно восторгались костюмами исполнителей25.

Историческая перспектива
23
Известно также, что Рафаэль, оформляя постановку комедии Ариосто «Подмененные» для папы Льва Х, советовался с Ингирами.
Есть еще свидетельство (недостоверное) об одной импровизации Ингирами во время теа-тральной «накладки», когда накренилась (или упа ла) часть декорации и, если бы не он, пришлось бы прервать спектакль. Якобы тогда Ингирами сымпровизировал что-то весьма занимательное. Зная, однако, об ораторском опыте актера Федры, мы можем уверенно предполагать, что он произнес классический экспромт, а не делал лацци.
Итак, в театральных исканиях Академии Помпония явственно возникало важное каче-
ство, определявшее их новый культурный смысл. Академики, в силу своей учености, стремления понять и объяснить античное яв-ление, которое они пытались возродить, начали создавать феномен спектакля как самодоста-точного сценического произведения, пусть несовершенного, но не поглощаемого ни при-дворным этикетом, ни мистериальным ритуа-лом. Спектакль Академии Помпония, даже дававшийся на праздниках, стал чем-то особым, самоценным.
Идея театра в понимании Юлия Помпо-ния Лэта и его преемников наполнилась новым историко-эстетическим содержанием.
1 Zabughin V. Giulio Pomponio Leto. Vol. 1–2. Roma, 1909.
2 Забугин В. Юлий Помпоний Лэт: Критическое исследование. СПб., 1914. С. 2–3.
3 Там же. С. 194–217. (1. Лекции по Валерию Флакку. С. 195–202; 2. Лекции по Варрону. С. 202–204; 3. Лекции по Вергилию. С. 204–215; 4–5. Лекции по Квинтиллиа-ну, лекции по Клавдиану. С. 215; 6. Лекции по Овидию. С. 216; 7. Лекции по Флору. С. 217.)
В. Н. Забугин анализирует «Скифские заметки» Лэта на С. 77–101.
Больше всего впечатлений от «Скифии» содержится в лекции по Вергилию. Русь в изображении Юлия Помпония выглядит экзо-тичной и даже фантастичной, от-части потому, что нехватку сведе-ний ученый восполнял по антич-ным трудам, в которых сказочного больше, чем реального, но отчасти и потому, что таковой и была жизнь русичей XV века.
Исследование В. Н. Забугина показывает, что Юлий Помпоний не доехал до Московского государ-ства, а побывал только в южных краях, двигаясь по сухопутным и водным торговым путям. Он, однако, многое повидал и о многом дознался от «скифских собеседни-ков». Кроме этнографических знаний Юлий Помпоний накопил ряд географических наблюдений и сделал некоторые уточнения. Например, он говорит о Новой
Земле как об острове, что до него было гуманистам неясно.
Особенно много живого и ярко-го итальянский путешественник сообщает о людях, их нравах и тру-де и об окружающей их природе. Он хорошо осведомлен об этниче-ском своеобразии «Скифии», об особенностях хозяйства и быта населения. Впечатляет ощущение простора и вольности, переданное в заметках путешественника по земле, освобожденной от ига. «Скифы свободны, — говорит Помпоний, — и императоры их называются императорами свобо-ды» (С. 98).
Очень ярки бытовые заметки путешественника, особенно кули-нарные, ибо он питался местными блюдами и не раз пробовал мест-ные напитки. Впечатляют наблю-дения итальянца над дикими скифскими животными, которых он самолично видел (это южные звери зубр и бобер), описание по-лярных зверей на Новой Земле (о них ему только рассказывали) и рассуждения об ископаемых ма-монтах. Наконец, трудно удер-жаться от цитаты про такую дикови-ну, как лебединая песнь, которую Юлий Помпоний Лэт «слышал в скифских болотах» собственны-ми ушами. «Когда лебедь стареет, на лбу у него рождается твердое короткое перо. Пишут, что этим пером пронизывается мозг птицы, и думают, что она тогда сладко поет и умирает. Я слышал поющих
лебедей в скифских болотах. Мест-ные жители не знали, должен ли умереть тот, кто пел. Гармония их песни сладка, и когда слышишь одного, кажется, будто их несколь-ко» (С. 96). Очень соблазнительно отметить, как похожи эти лебеди Помпония на «лягушек-лебедей», поющих хором в Стигийском бо-лоте в комедии Аристофана «Ля-гушки», посвященной вопросам театра. Но ни у Помпония, ни у его исследователя В. Н. Забугина та-кой ассоциации не возникло.
4 Сruciani F. Teatro del Rinasci-mento. Roma, 1450–1550. Roma, 1983.
5 Забугин В. Юлий Помпоний Лэт. С. 103.
6 Ф. Кручани уточняет, что это были сапоги-котурны. См.: Сruciani F. Teatro del Rinascimento. Roma, 1450–1550.
7 Забугин В. Юлий Помпоний Лэт. С. 192–193. Иконографиче-ским источником В. Забугина яв-ляются портрет Помпония в гале-рее Уффицци во Флоренции и карикатура на полях студенче-ского конспекта.
8 Там же. С. 194.9 См.: Там же. С. 110.10 Там же. С. 129. Как указывает
В. Забугин, трактовка символики заимствована Помпонием у Кас-сидора, а последняя фраза — пря-мая цитата из Кассидора.
11 Надпись с именем Помпо-ния В. Забугин сфотографиро-вал. Фотография представлена
Примечания

Театрон [1•2012]
на фронтисписе его русской книги.
12 Речь идет о собрании 1483 года, сведения о котором содер-жатся в «Римском дневнике» Якопо Герарди. См.: Сruciani F. Teatro del Rinascimento. Roma, 1450–1550. P. 188.
13 Цитируется «Римский днев-ник» Я. Герарди. Предпочитая обобщенную картину собрания, воссозданную В. Забугиным, приведем также соответствую-щий текст Герарди: «В прошлое воскресенье на Эсквилине (В. За-бугин считает, что этот холм ука-зан ошибочно. — М. М.) рядом с домом Помпония „литературное братство“ отпраздновало день основания Рима. Деметрий Лу-кензе, префект папской библио-теки, совершил священную ли-
тургию. Павел Марс (Paolo Mar-so) произнес проповедь. Отобе-дали по соседству с храмом Спа-сителя, где „литературное брат-ство“ и студенты приготовили изысканное пиршество, на кото-ром присутствовали шесть епи-скопов, много знатных юношей и ученых; во время обеда были оглашены привилегии, дарован-ные „литературному братству“ императором Фридрихом III, и молодые ученые читали на па-мять стихи» (Сruciani F. Teatro del Rinascimento. Roma, 1450–1550. P. 188).
14 Забугин В. Юлий Помпоний Лэт. С. 184–185.
15 См.: Сruciani F. Teatro del Rinascimento. Roma, 1450–1550. P. 188.
16 Цит. по: Ibidem. P. 187.
17 Это в основном немецкие ученые: на рубеже XIX–XX веков Вильгельм Крайзенах и Макс Германн, гипотезу которых при-няли в середине ХХ века Маргарет Дитрих и Хайнц Киндерманн.
18 Цит. по: Сruciani F. Teatro del Rinascimento. Roma, 1450–1550. P. 222–223.
19 См.: Ibidem. P. 280.20 Ibidem. P. 284.21 Цит. по: Сruciani F. Teatro del
Rinascimento. Roma, 1450–1550. P. 284–285.
22 Цит. по: Ibidem. P. 226.23 D’Ancona A. Origini del teatro
italiano Torino. 1891. V. 1. P. 355.24 Цит. по: Сruciani F. Teatro del
Rinascimento. Roma, 1450–1550. P. 354.
25 Об этом спектакле см.: Теа-трон. 2011. № 1. С. 85–86.

25
Школьный театр Общества Иисуса ведет свою историю со времени учреждения в странах Западной Европы самых первых иезуитских средних школ — коллегий. Уже в 1550-е годы (а орден как таковой официально оформился в 1534 году), с ведома и одобрения Игнатия Лойолы, в коллегиях разных стран стали устраивать театральные представления с при-глашением зрителей. Поначалу никакие общие правила их устройства «сверху» не насажда-лись: традициям дали время взрасти и устоять-ся, доказать свою полезность. Театральная практика в иезуитских школах складывалась на протяжении полувека, с различной интен-сивностью и на разных эстетических платфор-мах, в сложном, порой конфликтном взаимо-действии с национальными моделями театра и только к началу XVII столетия приобрела устойчивые черты. Однако и в дальнейшем, когда театр иезуитов достигнет расцвета и будет обеспечен сводом внутренних законов (теоре-тическими поэтиками, руководствами по со-чинению и постановке пьес, по обучению школяров актерскому творчеству), он не пре-вратится окончательно и повсеместно в уни-версальную догматическую систему. То лучшее в творческом отношении, что представлял иезу-итский театр в той или иной стране, что обе-спечивало его долгожительство и успех, всегда сохраняло связи с искусством конкретного времени и места. На протяжении своей почти трехвековой истории, от XVI к XVIII веку1, театр иезуитских школ прошел много этапов развития. Потому не вполне правомерно видеть в нем, как это бывает в трудах обобщающего характера, только всепоглощающее господство стиля барокко, свойственного его зрелости и упадку. По мнению французского ученого А. Стегманна, «представлять этот театр, бароч-ный или нет, как нечто единое, как воплощение воинствующего духа Контрреформации есть тенденциозный подход новейшей критики. Характеризует его, напротив, разнообразие
времен и нравов, забота о действенности в каж-дую эпоху и в каждой стране; его можно упре-кнуть, скорее, в излишнем подчинении капри-зам моды»2. И если иезуитская драматургия по своему художественному уровню и уступала творениям светских мастеров (при этом осно-вательно на них влияла), то театрально-поста-новочная деятельность была вполне конкурен-тоспособной и нередко обгоняла в своих достижениях профессиональную сцену.
Наиболее сложным для изучения, по при-чине отсутствия многих документальных дан-ных, остается ранний период существования этого театра (вторая половина XVI — начало XVII века), параллельный великой эпохе ста-новления и расцвета ренессансного сцениче-ского искусства в странах Западной Европы. Не вдаваясь в данном случае в крайне кон-фликтную и противоречивую тему взамоотно-шений идеологии и практики иезуитов, их пе-дагогики, их искусства с комплексом идей позднего Ренессанса3, отметим, что в области театра противоречия были не столь разительны, доказательством чего могут послужить мате-риалы этой публикации.
Важные вехи начальной истории театра иезуитов связаны с личным вкладом известных педагогов, многие из которых были учеными, мыслителями, литераторами. Руководствуясь не одними только учебными задачами, они при-давали спектаклям серьезное художественное и социально-политическое наполнение. Ис-следования западных ученых конца ХХ и на-чала нового века, новейшие издания ранее не-доступных рукописных пьес позволили пересмотреть ряд положений этой истории, существенно дополнить биографии ученых отцов их творческими заслугами. Преимуще-ственно на эти работы опирался автор данной статьи.
Отечественному театроведению история иезуитского театра открыта главным образом с восточноевропейской стороны. Аспекты
И. А. Некрасова
Отцы-основатели театра иезуитов

Театрон [1•2012]
26
разностороннего влияния иезуитской тради-ции на русский школьный театр изучаются вот уже более столетия и достаточно известны4, ис-следуются также сопредельные области сце-нического искусства славянских стран, особенно Украины и Польши5. Однако единственной монографической публикацией о «западном» направлении остается книга дореволюционно-го историка В. И. Резанова «Экскурс в область театра иезуитов»6 — добротный свод материа-лов по драматургии иезуитов с пространными выдержками из пьес на языке оригинала — латыни, основанный на немецких (главным образом, так как именно от немцев нити тяну-лись в Россию) и французских публикациях второй половины XIX столетия. В свое время эта книга принадлежала к разряду новатор-ских, поскольку, как справедливо отмечал сам В. И. Резанов, «история театра иезуитов, к со-жалению, еще не написана»7. Спустя сто лет количество западных научных изданий, по-священных данной теме, увеличилось от, услов-но говоря, одного шкафа до целой библиотеки на разных языках. В наше время это весьма оживленная сфера исследований, увлекающая молодое поколение, поскольку все еще распола-гает ресурсами неизученного и неизданного. Особенно интересным представляется здесь ракурс исторических межкультурных и меж-дисциплинарных коммуникаций, ибо с самых первых лет иезуитский театр развивал практи-ку международного обмена, за счет чего обо-гащалась и художественная жизнь конкретных стран.
В пору, когда Общество Иисуса еще толь-ко распространяло свое влияние по расколотой религиозными конфликтами Европе, подвласт-ные ему учебные заведения различного уровня становились опорными пунктами первостепен-ной важности. Средние школы ордена, колле-гии, предназначенные не для будущих служи-телей церкви, а для мирян, привлекали целым рядом преимуществ, таких как финансовая до-ступность (во многих странах прием учеников был вовсе бесплатным), отсутствие формаль-ных социальных барьеров, возможность при-обретения навыков поведения в обществе, что способствовало подъему выпускников по социальной лестнице. Свои педагогиче-ские программы, особенно по древним язы-кам, основатели иезуитских школ заимствуют
у предшественников-гуманистов, у которых неолатинский школьный театр развивался уже как минимум полтора века и имел большие достижения. Из этого источника иезуиты — устроители первых спектаклей черпали с наи-большей активностью, не обходя вниманием и опыт главных идейных врагов — протестан-тов, которые очень успешно использовали в своих целях театральные формы. Отдавая безусловное предпочтение христианской тема-тике (хотя и не ограничиваясь только ею), иезуиты также приспосабливали к возможно-стям учеников позднесредневековые религи-озные жанры, еще жизнеспособные в XVI веке: церковные действа, мистерии, моралите. Эти две тенденции — обращение к учено-гумани-стической литературной драме и к религиоз-ным действам средневекового типа — можно считать основными в период становления театра в коллегиях иезуитов. Что показатель-но, начинали там не с сочинения новых пьес, а с постановок по уже существующим текстам: исполнение опережало драматургию.
Один из самых первых известных спекта-клей был осуществлен при официальном от-крытии Венской коллегии в 1554 году, причем начал историю иезуитского «театра поучения» драматург по фамилии Брехт. Представле-ние неолатинской «христианской трагедии» «Эврип» францисканца Левина Брехта (ум. 1558/1560) из Лувена8 имело успех в Венской коллегии, затем в Кордовской (1556 или 1557), Мюнхенской и Пражской (1560), Иннсбрук-ской (1563) и других. Оно заложило краеуголь-ный камень новой традиции.
«Эврип» (Euripus), разновидность поле-мического моралите, развитого в первой полови-не XVI века учеными драматургами в разных странах, был остро актуальным произведени-ем. В эпоху Тридентского собора (заседавшего с 1545 по 1563 год) пьеса Л. Брехта дала на-чальный образец собственно католической полемики с протестантами — в драматической форме, ими же, протестантами, разработанной. За основу лувенский монах взял один из луч-ших образцов лютеранской антипапистской пропаганды — яркую, злую пьесу-памфлет «Торговец» Томаса Наогеорга (издана в 1540 году с посвящением М. Лютеру). «Эврип» на-писан как пьеса идейная, исполненная высокой учености в ренессансном духе, но автор целе-направленно сплетает познания в античной

Историческая перспектива
27
философии с познаниями в патристике, дока-зывая устами своих персонажей необходимость для современного человека следовать примерам отцов церкви. Герой показан здесь слабым, уязвимым существом, за душу которого борют-ся противостоящие силы языческого и христи-анского мира.
Пять актов весьма велики по объему, так что спектакль не мог не быть продолжитель-ным, а значит, требовал основательной подго-товки, организации сценического времени и пространства — начатков режиссуры. Костю-мировка предполагала изобретательность, ибо часть персонажей — античные божества (Вене-ра, Купидон), в данном случае воплощения пороков земной жизни, а часть — христианские аллегории, причем взятые не из популярных моралите, а оригинальные авторские, продик-тованные логикой сюжета. С заглавным героем дискутируют Обитель Страха, Обычная Жизнь, Пещера Мрака, Сад Земной, Обитель Смерти, т. е. Преисподняя, и прочие удивительные пер-соны. Имеются также хоры — дань увлечению античной классикой.
Эта драма, обладающая литературными достоинствами, сценическим потенциалом, была очень точно выбрана для дебюта, сразу определив общую направленность театра иезуитов не на внутренние, а на внешние цели. Как подчеркнул крупнейший современный специалист по иезуитскому театру Ж.-М. Ва-лантен, «историческая точка отсчета неолатин-ского театра времени католической Реформы, „Эврип“ заполняет лакуну, убеждает колеблю-щихся, поощряет самых ревностных. После него иезуиты смогут, в прямом смысле этого слова, занять передний край сцены»9.
Педагоги коллегий будут использовать для своих постановок не только пьесы едино-верцев. Так, при торжественном открытии нового здания коллегии в Кордове, в день праздника св. Иоанна Крестителя 24 июня 1555 года, силами учеников была представлена нео-латинская комедия на евангельский сюжет «Аколаст, или о Блудном сыне» — это, по всей вероятности, самый первый театральный опыт иезуитов в Испании. Об успехе своего начи-нания педагог коллегии Педро Пабло де Асе-ведо сообщал в Рим лично основателю ордена о. Игнатию10, не называя, по понятным при-чинам, имени сочинителя этой удачной пьесы («Аколаст» не просто инсценировка евангель-
ской притчи, но вполне оригинальное сочи-нение).
Пьеса была к тому времени широко из-вестна в ученых кругах эпохи, это исторически первая неолатинская «священная комедия», в которой евангельская фабула облеклась в фор-му античной паллиаты. Написал ее нидерланд-ский протестант Вильгельм Гнафей в 1528 году11, а чуть позже кордовской постановки, в 1559 году, она и вовсе угодила в папский Индекс запрещенных книг, что, однако, не пре-пятствовало дальнейшим постановкам в като-лических школах и бесчисленным переработкам и подражаниям. Гибкость иезуитских подходов вошла в пословицу, и в данном случае художе-ственные достоинства пьесы явственно пере-вешивали межконфессиональные различия.
Фактов постановок в различных коллеги-ях Западной Европы ученых неолатинских пьес духовного, а также светского, школьного, со-держания (одного из ведущих направлений драматургии Ренессанса) известно достаточно много. Но не всегда тексты школьных драм удовлетворяли потребностям иезуитов в кра-сочном зрелище, призванном завоевать необ-ходимую им широкую публику. И хотя во второй половине XVI века образованное со-словие пренебрежительно относилось к старым мистериям и церковным действам, их вырази-тельные возможности иезуиты также стали использовать.
Соединение учено-гуманистической и средневековой традиции характеризует теа-тральную деятельность Педро Пабло де Асеве-до (1522–1573), основателя иезуитского театра в Испании, служившего в андалусских колле-гиях ордена, в Кордове и Севилье. Отношение к его наследию в корне изменилось в последние десятилетия, благодаря изданиям пьес, со-хранившихся в рукописях12. Если ранее его счи тали лишь «копиистом»13, перелагавшим сред невековые тексты на латынь, и отводили небольшое место в рядах предшественников жанра ауто сакраменталь (действа о Причастии в праздник Тела Господня, которое к XVII веку выльется в Испании в отдельную грандиозную театральную традицию), то в наше время при-знали «важнейшим драматургом ордена в Ис-пании в начальный период»14.
Первые сведения о его постановочной деятельности в Кордове относятся к 1555–1561 годам, затем Асеведо получил назначение

Театрон [1•2012]
28
во вновь открытую коллегию в Севилье, с уче-никами которой ставил спектакли до 1572 года15. Среди осуществленных им постановок были как известные («Аколаст», «Эврип»), так и сочиненные им пьесы. 25 сохранившихся текстов о. Асеведо весьма разнообразны, среди них есть построенные по правилам античной поэтики комедии и одна трагедия, христиан-ские эклоги (продолжение национальной тра-диции, заложенной родоначальником испан-ской драмы Хуаном дель Энсиной) и простые по форме диалоги для различных торжеств. Они составляют наиболее ранний из известных авторский репертуар театра иезуитов, в кото-ром запечатлен и опыт постановок в процессе становления.
П. П. де Асеведо был весьма авторитет-ным деятелем ордена, состоял в переписке с И. Лойолой и другими высшими чинами, которым направлял отчеты о спектаклях, на-чиная с дебютного «Аколаста». В эпистоле от 27 декабря 1555 года о. Асеведо уведомлял своего патрона, что в день св. Луки (18 октября) им было устроено новое представление (акаде-мического характера, в форме латинских диа-логов), а 15 ноября того же года, в день св. Екатерины Александрийской, покровительни-цы Кордовской коллегии, исполнялись «эпи-граммы» и «декламации» на тему о царе Дави-де16. 30 июня 1556 года в Рим сообщалось, что по случаю праздника Тела Господня в Кордове «прослушали латинскую комедию о Прича-стии, нашими учениками превосходно пред-ставленную»17, в праздник Рождества Пресвя-той Богородицы (8 сентября) было исполнено новое латинское сочинение на соответствую-щую тему. 31 января 1559 года о. Асеведо писал Лойоле, что в день св. Луки «нашими <учени-ками> из школы вместе со многими кавалерами была представлена комедия о войне пороков и добродетелей, при многом хлопании и одо-брении ученых мужей»18.
Видно, что театральная практика Кордов-ской коллегии под руководством о. Асеведо была достаточно интенсивной, спектакли устраивались часто и связывались с конкрет-ными церковными праздниками (с особенной пышностью ежегодно отмечался день св. Ека-терины19). В этом андалусском городе, дольше многих других на Пиренейском полуострове подчинявшемся мавританским властям, сцени-ческие зрелища были еще в новинку. Школь-
ный театр производил столь сильное впечатле-ние, что зрители требовали повторов. В 1560 году в коллегии, писал Асеведо, «в день госпо-дина св. Иоанна… силами наших учащихся вечером было представлено действо на латыни, повествующее, как преблагочестивый Крести-тель крестил, и об отправке [sic] его учеников к ученикам Христа, как Христос отправился в Самарию и встретил ту женщину у колодца, с прочими интермедиями; и исполняли это актеры с приятностью, и думаю, что немало пользы было извлечено из всего этого, укра-шенного согласно обычаям, и особо этим дово-лен был сеньор епископ, хотя обычно он на таком присутствует не очень охотно»20. Спек-такль настолько понравился, что его повторили в зале капитула главного городского храма, причем для вторичного показа о. Асеведо оза-ботился перевести часть сцен на испанский язык, чтобы содержание стало понятно боль-шинству зрителей. Та же история повторилась и с его пьесой «Раскаяние», написанной в под-ражание «Эврипу» Л. Брехта и впервые сыгран-ной в Кордове в 1556 году: в 1561 году ее по-казали дважды — в коллегии и в соборе — при невиданном стечении духовной и светской публики, которая смотрела спектакль на тему о покаянии с «большим вниманием, чувством и слезами»21.
В новом театральном деле о. Асеведо, по-лагают исследователи его творчества, черпал из национальных, кастильских ключей: ему несомненно были знакомы церковные пред-ставления в его родном городе Толедо, устраи-вавшиеся в праздник Тела Господня, а также опубликованные эклоги и действа театральных поэтов рубежа XV–XVI веков — Хуана дель Энсины и Лукаса Фернандеса из Саламанки (где Асеведо, скорее всего, учился); мог он за-интересоваться и последней новинкой 1554 года — посмертным «Собранием произведений в стихах» Диего Санчеса де Бадахос, куда во-шли духовные и светские фарсы, которые клирик из Талаверы сочинял и ставил для на-родного зрителя22.
Севилья, где о. Асеведо продолжил свою деятельность, в отличие от Кордовы, во вто-рой половине XVI века уже была городом театральным. Как ректору учрежденной там иезуитской коллегии, ему пришлось конкури-ровать и с более старыми школами за приток учеников, и с актерскими труппами — за зри-

Историческая перспектива
29
теля. С последней задачей он справился, при-менив, в частности, успешный принцип свет-ской сцены — дополнение основной пятиактной пьесы комическими интермедиями на испан-ском языке. В иезуитской практике ему при-надлежит в этом деле первенство. Учиться было у кого, ведь именно в Севилье своими интер-медиями — пасо прославился старший совре-менник о. Асеведо, «отец» испанского про-фессионального театра Лопе де Руэда (ок. 1510–1565).
Среди севильских постановок о. Асеведо запомнился «Неистовый Люцифер», сыгран-ный школярами 1 января 1563 года, в день Обрезания Господня. Жанровое обозначение «трагедия» проистекало из обращения к антич-ному образцу — трагедии Сенеки «Hercules furens» (у Асеведо аналогичное название — «Lucifer furens»), пятиактной формы и класси-ческих цитат. Однако по существу это аллего-рическое религиозное действо типа моралите с линейным сюжетом: Люцифер узнает о при-шествии в мир младенца Христа. Успех обе-спечило представление «cum magno teatro», как отмечалось в донесении о. Асеведо в Рим23. Мы знаем, что этот драматург, как и другие деятели ордена, придавал первостепенное значение зрелищной стороне театрального действа. В прологе к его комедии «Филавт» (сочинен-ной по мотивам Гнафеева «Аколаста» в 1565 году) говорится:
Мы расскажем здесь вкратце историю,Каковую узрите затем в представлении,Ибо то, что зримо очами, трогаетМного больше того, что услышано ухом24.
Нет конкретных свидетельств о ходе по-становки «Люцифера», об устройстве сцены (как нет и содержательных ремарок в тексте пьесы, так как Асеведо ее для распространения не предназначал). Неизвестно, как именно вы-глядело в 1560-е годы патио (внутренний двор) Севильской коллегии, где проходили, по ис-панскому обычаю, представления. Но если не подвергать сомнению авторские слова о «вели-колепном театре» и прочесть текст пьесы как режиссерский сценарий, то спектакль — дей-ствительный или воображаемый — можно ча-стично обрисовать.
При всем своем архаизме, композиция иезуитского драматурга далека от средневеко-
вой аморфности: она стройна и отмечена един-ством стиля, возвышенностью, продуманными контрастами. Место действия не конкретизи-ровано, однако наделено символикой: обитали-ще Люцифера противопоставлено светлому царству Рождества; можно предположить, что в центральной части сцены располагалась ком-позиция рождественских яслей, куда обращали взоры и указующие жесты персонажи-аллегории.
Сам протагонист Люцифер — образ, не лишенный величия. Спектакль начинался (по-сле обычного краткого пролога с пересказом фабулы) его эффектным выходом к публике — с громом и молнией и выразительным моно-логом, передающим все неистовство падшего ангела при вести о Рождестве. Игровая площад-ка была, без сомнений, поднята над уровнем земли, дабы устроить люк, необходимый для первого акта, где задействованы силы ада. На зов Люцифера разверзалась земля, со всполо-хами пламени медленно вырастала во весь рост зловещая фигура адской фурии…
Л[юцифер]. <…> Чудеса той ночи, ког-да родился младенец, дают несомненные свидетельства, что мы терпим ущерб и беду. Потому я и вызвал Фурий из самой глубины моего царства, дабы горящими факелами они махали для меня, дабы я мог изрыгнуть на смертных серный огонь, подобный огню, что обычно выхо-дит из печей горы Этна, все сокрушая, уничтожая и пожирая. Мегера, в сопрово-ждении ужасного войска змей, подымись с твоего темного трона и принеси с собой все орудия гнева!M[егера] . Зачем ты, о князь тьмы, по-велел мне прийти сюда и оставить мой мрачный трон? Какой небывалый страх тебя мучит теперь?25
Горящие факелы, «серный огонь» и «вой-ско змей» составляли зловещий антураж этой сценической картины. Внешний вид самого Люцифера не описан, но, вероятнее всего, осно-ву его костюма составляла звериная шкура (и маска с непременными рогами). Как считают специалисты, именно такой облик был присущ Люциферу в испанских религиозных зрелищах той эпохи, что подкреплялось и распространен-ным богословским толкованием. В церковных

Театрон [1•2012]
30
представлениях в Толедо, которые мог видеть в юности П. П. де Асеведо, как известно по до-кументам, для чертей предназначались зве-риные шкуры26. В одном из фарсов Диего Санчеса де Бадахос («Воинственный фарс», поставленный около 1547 года), основанном на популярном сюжете моралите «Мир, Плоть и Дьявол», персонаж Люцифер появлялся «в обличье свирепого зверя»27.
Люцифер посылал своего Вестника вы-знать, насколько верно известие о рождении божественного младенца, и уступал сцену персонажам-аллегориям, которые будут дис-кутировать между собой на протяжении трех срединных актов. Таким образом, большая часть спектакля представляет собой излюблен-ный жанр школьного театра — диалог, в кото-ром ученики могли блеснуть мастерством латинской декламации. Попарно являются Ветхий Завет и Время Благодати (Новый За-вет), Скорбь и Наслаждение, Милосердие и Смирение (эти не только рассуждают, но и поют дуэтом рождественский гимн).
Живописность этой части спектакля при-давали, безусловно, костюмы персонажей — уже в самом начале своей истории иезуитский театр начинает разрабатывать специфическую традицию сценического костюма, основанную на идее аллегоризма. Предположительно они выступали в масках или же закрыв головы по-крывалами, их одеяния были белыми или светлых тонов (кроме Скорби) и сочетались с необходимыми для опознания атрибутами. Это подтверждает, в частности, реплика алле-гории Скорби в конце 1-й сцены IV акта: «Я хочу увидеть этот миг, o Наслаждение, и для того с охотою переменю траурные одежды на твои и возьму твое имя взамен имени Скорби»28. Не исключено, что в спектаклях такого типа могли использоваться даже таблички с наименова-ниями аллегорий (упоминание о подобной надписи есть в прологе асеведовской комедии «Филавт»29), поскольку адресовались они гра-мотной публике.
Пьеса у Асеведо развивается таким обра-зом, чтобы дать зрителям почувствовать дви-жение от мрака к свету, и когда в V акте вновь появляется Люцифер — он уже вовсе не стра-шен, судьба его предрешена… Со своей послед-ней «неистовой» речью, полной риторических оксюморонов («…темная ночь даст землям свет, вода соединится с огнем, жизнь со смертью,
ветер с морем, прежде чем Он вступит в союз со мною. Он идет на борьбу со мной за свое царство. Я поспешу туда, где тусклый страш-ный мрак…»30), протагонист «трагедии» на-правляется прямиком в преисподнюю. Выходит (согласно ремарке) и тут же выходит из роли. Сцену заполняет веселая компания мальчиков-учеников, уже, вероятно, сменивших наряды своих персонажей на обычные, и затевает дет-скую игру в «быка в лесу», где «быком» ста-новится тот, кто выступал раньше в шкуре Люцифера: так трансформируется основная теологическая тема спектакля. Игра заканчи-вается, когда один из мальчиков говорит дру-гому: «Пора уж тебе оставить роль Люцифера, Бенедикт. И тогда мы сможем подать тебе руку помощи»31. Этот нехитрый игровой прием (ор-ганичный для школьного театра), по словам автора-постановщика (скорее всего, он сам вы-ходил в финале на сцену), есть необходимое завершение спектакля о Люцифере: «Сия игра во славу младенца кладет конец нашему дей-ству, почтенная публика, а оно, не будучи строгим и бесполезным, надеюсь, не было вам неприятно; даруйте же ваши аплодисменты не действу, не нам, а сладчайшему Иисусу, кото-рый очищает и питает нас своей чистейшей кровью. Аминь»32.
Театральная деятельность Педро Пабло де Асеведо в Кордове и Севилье, его современни-ка Хуана Бонифасио (ок. 1538–1606) — в колле-гиях небольших городов Кастилии, где театра прежде вообще не знали, а также многих других школ, которые не могли похвастаться крупны-ми именами драматургов и постановщиков, объективно способствовала формированию театральной публики «золотого века», приоб-щению к зрелищному искусству тех групп населения, которые не посещали «низкие» публичные театры-коррали. Религиозная при-надлежность и религиозная же тематика иезу-итских представлений отчасти компенсировали представление о театре как о «бесовском» за-нятии. Для столь религиозной страны, как Испания, это было довольно существенно.
В поисках средств завоевания публики отцы-педагоги экспериментировали, разраба-тывая новые темы, незатертый материал, кото-рый затем подхватывала светская драма. В Ис-пании (и чуть позднее во Франции) это была, например, агиография, как старинная, так и со-

Историческая перспектива
31
временная: именно в школьных спектаклях формируется традиция представлений о свя-тых, расцветшая затем, в XVII веке, в корра-лях — в творчестве Лопе де Веги и его школы, также во Франции — у драматургов корне-левской эпохи. В рамках религиозного театра агиографический материал давал основания для развития весьма специфического исто-ризма.
В 1580 (по другим данным — в 1590-м) году опять же в Севилье была осуществлена постановка «Трагедии о святом Герменегиль-де», по случаю открытия новой иезуитской коллегии имени этого местного святого — гот-ского принца VI столетия, героически погиб-шего в борьбе за истинную веру против ариан-ской ереси. Пьесу, которая считается лучшей в испанском иезуитском репертуаре и одной из лучших национальных драм XVI столетия33, атрибутировали коллективу авторов по главе с Эрнандо де Авила (1558 — нач. XVII в.) и из-дали по рукописи только в 1990-е годы34. Она специфична обращением к историческим ис-точникам, попыткой воссоздать древнюю эпоху и раздиравшие ее религиозные распри с высо-кой степенью убедительности. Это почти что историческая хроника, современная шекспи-ровским, но построенная по классическому канону. Поскольку представляли ее в условиях общегородского празднества, в тексте латынь чередовалась с рифмованными испанскими стихами. Между актами разыгрывалась трех-частная аллегорическая интермедия о Герку-лесе, побеждающем Невежество. Анализ этой многосоставной пьесы и порожденной ею дра-матургической традиции потребовал бы от-дельной статьи (с легкой руки севильских ие-зуитов святой Герменегильд в различных воплощениях появится на школьных и про-фессиональных сценах всей Европы).
Спектакль почтили своим присутствием архиепископ, глава местной инквизиции, го-родские власти и аристократия. Он удостоился даже содержательного описания в официаль-ной «Реляции», откуда можно почерпнуть сведения об устройстве сцены: «Помост был в один стадий высотой и 39 квадратных футов площадью; на фасаде были изящные по архи-тектуре большие ворота, изображавшие город Севилью, на фризе которых был картуш с бук-вами S. P. Q. H. [Senatus Populusque Hispalis, т. е. сенат и народ Севильи]. По бокам от этих
ворот, с одной и другой стороны, шла прекрас-ная лицевая часть стены с зубцами, за предела-ми коей, на отдалении в три фута, стояли две чуть более высокие башни, та, что слева, слу-жила тюрьмой для святого Герменегильда, а та, что справа, — зáмком для „интермедий“. По сторонам от двух этих башен оставалось до-статочно места, чтобы там выходили все лица, которые будто бы находятся за пределами Се-вильи, как король Леовигильд и другие; потому что через ворота посредине входили и выходи-ли только те, кто будто бы пребывал в Севилье, как „святой Герменегильд“ и прочие…»35. Таким образом, сценическая конструкция походила на мистериальную: с тремя основными площад-ками (типа средневековых «беседок» или «замков»), соединенными между собой помо-стами. Участвовали в представлении восемьде-сят школяров-актеров, хоры и музыканты.
Испанский «Герменегильд» переклика-ется в ту же эпоху с одной из первых ориги-нальных драм иезуитов во Франции (точнее, в Лотарингии). В 1580 году в коллегии Понт-а-Муссон была поставлена «Трагическая исто-рия о деве из Домреми, иначе из Орлеана…», сочинение местного преподавателя Фронтона дю Дюка (1558–1624), первая драма о судьбе национальной героини Франции, также на се-рьезном историко-документальном основании и не на латыни, а на родном языке36. Но эти и другие (например, трагедия «Венцеслав», поставленная в Праге в 1567 году) ранние опы-ты по созданию историко-религиозной драма-тургии на национальном материале и на живых языках в рамках складывающейся иезуитской системы развития не получат.
Если в Испании иезуитский театр пло-дотворно взаимодействовал со светским, то совсем иначе дело обстояло в Португалии: иезуиты, утвердившиеся там, уже с середины XVI века вели борьбу против светских тен-денций в искусстве. Их новый театр призван был заменить собою светский, пронизанный эразмианским вольнодумством; запретам под-вергалось творческое наследие Жила Висенте, родоначальника национального театра. Раз-витие театра в коллегиях шло здесь с неви-данной агрессивностью: иезуиты стремились перехватить у светского театра все преимуще-ства: и опору на античную ученость, и роль в придворных развлечениях, и зрелищность,

Театрон [1•2012]
32
обеспечивавшую интерес широкого, неиску-шенного зрителя.
Особенно роскошные зрелища устраива-лись во второй половине XVI века в иезуитской коллегии в Коимбре, древней столице Португа-лии, самом первом из учебных заведений орде-на (открытом в 1542 году). Там практиковал выдающийся драматург Луиш Ла Крус, по-латыни Круций (1532–1604), ученик прослав-ленных во всей Европе гуманистов А. де Гувеа и Д. Бьюкенена. Из его пьес сохранилось шесть («Блудный сын», «Жизнь человеческая», «Се-декия», «Манассия», «Иосиф» и эклога о Рож-дестве), которые автор сочинял для португаль-ских школяров, но подготовил к печати во французском Лионе, где преподавал в послед-ние годы жизни37.
Наиболее важными его постановками были библейские драмы, развернутые до мас-штабов большой мистерии (самостоятельной традиции которой пиренейский театр в Сред-ние века не имел). Следует отметить, что в XVI веке иезуитские драматурги не так часто при-бегали к ветхозаветному источнику — вероятно, потому, что пьес на библейские темы бесконеч-но много писали и ставили лютеране и католи-ки опасались сравнений и подозрений в ереси. Но Португалия была достаточно далека от теа-тра военных действий Контрреформации, так что сюжеты, избранные Ла Крусом и его по-следователями, воспринимались спокойно. Мастерству драматургической интерпретации библейского текста Л. Ла Крус, несомненно, учился у Д. Бьюкенена, автора самых глубоких и поэтичных неолатинских трагедий XVI века («Креститель» и «Иеффай»), от него же вос-принял интерес к древнегреческой театральной традиции38. Тексты о. Ла Круса отличает лите-ратурное мастерство — ученый XIX столетия дал им самую лестную оценку, обнаружив «смелость замысла, высокую поэзию, ориги-нальность исполнения»39 и даже сравнив не-которые пассажи с шекспировскими и расинов-скими.
Неолатинская трагедия «Седекия», на по-пулярный у ученых драматургов ветхозаветный сюжет о царе, которого постигла кара (IV Кни-га Царств, 24–25)40, показывалась силами коллегии под управлением автора в 1570 году. Спектакль адресовался почетным гостям — шестнадцатилетнему королю Себастьяну I, высшему духовенству и аристократии страны.
Подлаживаясь под вкусы юного монарха, гре-зившего о рыцарских подвигах (их воплощение в жизнь принесет Португалии невосполнимые военно-политические потери), иезуиты устра-ивали на подмостках настоящие осады городов, сражения целых армий, ослепляющие роско-шью процессии. (Показательно, что типичные для средневековых мистерий картины пыток и казней здесь, дабы не нарушать атмосферы придворного торжества, передаются через рас-сказы вестников.) Такого рода спектакли, как и в немецких землях, прежде всего в Мюнхене и Вене, превращались в «государственные действа», в некую художественную проекцию политических амбиций правителя, к чему даль-новидные наставники непременно добавляли примеры дурного поведения, своеволия и не-подчинения Богу и церкви. Латынь придавала всему этому особо возвышенный характер (знатокам, элите была доступна вся полнота содержания, масса довольствовалась превос-ходным зрелищем).
Подобно мистериям, «Седекия» о. Ла Круса шел два дня подряд, с утра и до вечера — эпилог исполнялся уже при наступлении тем-ноты, хор пленных иудеев оплакивал свою участь при свете факелов. В пяти актах участво-вали более сорока персонажей — цари, воена-чальники, знать, воины, вестники (причем без единого женского лица — таков был идеальный вариант иезуитской школьной драмы).
Еще более грандиозное действо о ветхоза-ветном пророке Исайе и царе Манассии (ок. 1571), неосуществленное, рассчитывалось на трехдневный спектакль с полусотней актеров, двумя армиями статистов в полном вооруже-нии, несколькими хорами и оркестром, а также хитроумной машинерией для показа небесных и адских сил. Литературным образцом для ав-тора стала «Орестея» Эсхила. Текст «Манас-сии» даже включает комический эпилог, само-стоятельную пьесу наподобие сатировской драмы (обязательной части древнегреческой тетралогии) по мотивам «Менехмов» Плавта, перенесенных в Древний Вавилон.
Своими постановками о. Ла Крус, как следует из его предисловия, стремился придать новое направление национальному театру. «Лузитанцы [т. е. португальцы], для коих мы пишем, — убеждал он французского читате-ля, — ожидают великих дел, они не желают, чтобы их приглашали на бессмысленные игри-

Историческая перспектива
33
ща; они мыслят еще усилить достоинство и важ-ность своих пьес великолепием постановки, торжественностью действия, богатством деко-раций, длительностью спектакля»41. Однако такие дорогостоящие разовые постановки, при всем их великолепии, не могли заменить про-фессиональный публичный театр, который в этой стране будет переживать длительный период деградации.
В 1580–1590-е годы в странах Западной Европы политическое влияние ордена иезуитов существенно возрастает, увеличивается число подчиненных школ. Начинает упорядочивать-ся и их театральная практика. Педагогический устав (Ratio studiorum), обнародованный в Риме в 1586 году, включал в себя первое краткое указание педагогам — авторам и устроителям представлений: «Пусть сюжет трагедий и ко-медий, каковые должны быть латинскими и весьма редкими, будет священным и благо-честивым, да не будет в них между актами иных интермедий, кроме как на латыни и пристой-ных, да не будет там женских персонажей и жен-ских одежд»42. Как показала дальнейшая прак-тика, эти нормативы было почти невозможно соблюсти (даже приоритет латыни). В это вре-мя все более активно внутри системы начинают циркулировать сюжеты пьес, образцы для под-ражания, немногим позднее появляются и из-дания лучших сочинений, теоретические труды.
Поскольку штаб-квартира ордена распола-галась в Риме, ученые педагоги Римской кол-легии пользовались особым влиянием в сфере школьного театра. Среди основателей итальян-ской традиции следует назвать Стефано Тукки (ок. 1540 — ок. 1597), Франческо Бенчи (1542–1594). Пьесы о. Тукки, сочиненные им в пору службы в Мессине в 1562–1569 годах, раньше всех стали распространяться по школьным сценам, ставились, в частности, в Коимбре. Крупнейшая из них, драма-мистерия «Христос Судия» (1569), в которой воплотились образы канонического труда И. Лойолы «Духовные упражнения», была с большим размахом ис-полнена в Риме в 1573 году43. Однако в даль-нейшем пьесы о Христе (напрямую связанные с мистериями Страстей, наследием Средневе-ковья) в театре иезуитов останутся большой редкостью.
Учеником Ф. Бенчи (который в свою очередь являлся учеником французского гума-
ниста М.-А. Мюре) был римлянин Бернардино Стефонио (1562–1620), которого с полным основанием считают крупнейшим драматургом иезуитского театра, завершающим его «первую эпоху». О. Стефонио был вхож в литературные сообщества своей эпохи, был собеседником Торквато Тассо и Джанбаттиста Марино, его почитал Корнель, и к его идеям обращался Расин. Две латинские трагедии о. Стефонио «Крисп» (Crispus, 1597) и «Трагедия Флавиев» (Tragoedia Flavia, 1600) вызвали настолько большой интерес, что немедленно стали пере-издаваться и переводиться по всей католиче-ской Европе44. Они украсили первое в истории иезуитской драматургии собрание избранных трагедий (Selectae PP. SJ Tragoediae), вышед-шее в Антверпене в 1634 году.
Обе пьесы («правильные» и с хорами) основывались на римской истории и прелом-ляли в христианском духе античные мифы. В прологе «Криспа» дьявол исторгал из ада душу царицы Федры и понуждал ее наделить частицей того рокового пламени, в котором она вечно пылает, земную женщину Фаусту. Миф о Федре и Ипполите переносился в историче-ское время: Фауста была второй женой импе-ратора Константина (как когда-то Федра — второй женой афинского героя Тесея), ее внезапно обуревала страсть к пасынку (его имя Крисп), победоносному военачальнику импе-рии. Этот новый христианский Ипполит, окле-ветанный мачехой — после того, как он отверг ее домогательства, — не соглашался принять помощь своих войск, чтобы уберечь страну от кровопролития, и погибал невинной жертвой, прежде чем отцу становилась известна подо-плека событий. И Федра, и ее земная ипостась Фауста действовали по наущению дьявола, который покушался на христианские завоева-ния Константина, и должны были вызывать ужас и отвращение. В «Трагедии Флавиев» героями выступают брат императора Доми-циана Флавий Клеменций и двое его сыновей, которые принимают христианство из рук апо-стола Иоанна и мученически гибнут (в дей-ствии имелись аллюзии мифологического «пира Фиеста»). Демоническое начало вопло-щено здесь в фигуре чародея Аполлония Тиан-ского. Обе пьесы Стефонио встраивались в актуальный для своего времени идейно-политический контекст — споры о так назы-ваемом «даре Константина», считавшемся

Театрон [1•2012]
34
основой светской власти пап, подложность которого отстаивали протестанты.
О. Стефонио сам осуществил первые по-становки обеих трагедий. «Крисп» был показан впервые в 1597 году в Римской коллегии во время карнавала. Римский карнавал еще с кон-ца XV века связывался с ренессансными теа-тральными празднествами, с возрождением античного духа, который иезуиты рассчитыва-ли преодолеть, противопоставляя светским зрелищам идею «Carnevale santificato». Вторая трагедия «Флавии» — также во время римско-го карнавала 1600 года, по случаю начала «юби-лейного» года, объявленного Климентом VIII. «Напомним, — пишет М. Фумароли, — что этот самый год был отмечен в Риме одновременно сожжением на костре Джордано Бруно на Кам-по деи Фиори и первым исполнением в февра-ле, в Ораторио делла Валличелла, „Представ-ления о душе и теле“ Эмилио деи Кавальери»45. Чудовищный «акт веры» римской инквизиции, ознаменовавший конец эпохи итальянского Возрождения, и прекрасное творение нового искусства — оперы барокко символизируют два полюса иезуитской концепции театра, между которыми обрели место трагедии о. Стефонио.
Благодаря исследованию М. Фумароли (на основе неопубликованной корреспонден-ции о. Стефонио, программ и других докумен-тов, ранее неизвестных в истории театра) можно составить представление об этих спек-таклях. Наиболее освещена вторая постановка «Криспа» в Неаполитанской коллегии в начале 1603 года. Если в Риме спектакль проходил в парадной аудитории, то в Неаполе не хватило места, чтобы разместить всех желающих, и пред-ставление перенесли во двор. Зрители, вспоми-нал автор-постановщик, проявили чудеса стойкости, стоя в течение шести часов под хо-лодным дождем!
Место действия (Рим) было оформлено по модели витрувианской архитектурной деко-рации, которая давно применялась на светской сцене в Италии. Но в данной перспективной проекции «идеального города» использовались также новейшие достижения археологических раскопок в Риме и иллюстрации из научных публикаций того времени. Потрясающий «эф-фект узнавания» составлял важную часть спек-такля. О. Стефонио делился впечатлениями со своим корреспондентом, перечисляя деталь за деталью: «Воистину богатая сцена, сколоченная
из досок, с прекрасным изображением дворцов, картин, скульптур, колоннад, балюстрад, улиц, пределов, стен, шпилей, колонн, храмов и ме-ниан [балконов], нарисовано так, будто бы это был Древний Рим в той части, где Священная Дорога, что идет от Капитолия, вонзалась в самый Латеран, пересекаемая Каринами, благороднейшей древней дорогой, и Триум-фальной дорогой»46. В костюмах соблюдалась не меньшая историческая точность: «Убранство одежд было царственнейшее и великолепней-шее, как у персонажей, что изображали импе-раторов, так и у юношей из хора и у остальных актеров и бессловесных лиц, одетых в специ-ально сшитые ливреи, у ликторов, лучников, солдат, трубачей в претекстах и кафтанах на античный лад, с военными знаменами тех вре-мен, причем люди были построены и двигались, как римское войско»47. Не был ли падре Стефо-нио предшественником Чарлза Кина и мейнин-генцев в деле изобретения режиссерских принципов «археологического реализма»?
В самой композиции «Криспа» про-странные риторические монологи и диалоги поддерживались, скреплялись «живыми кар-тинами», возникавшими по ходу действия (как, например, эффектное шествие по сцене победоносной римской армии во главе с Кри-спом), зафиксированными в авторских ре-марках, а также интермедиями между сцена-ми, в ко торых допускалась вариативность (в сохранившихся программах постановок этой трагедии отмечены разнообразные ин-термедии, как пантомимические, так и сло-весные — на итальянском языке). Очень важен был в постановке «Криспа» хор, задуманный как подобие коллективного героя античной трагедии, каким он виделся историкам и тео-ретикам в ту эпоху: поющий и исполняющий сложную, символически насыщенную парти-туру движений. Для хора была отведена пе-редняя часть сценической площадки, кото-рую именовали на античный лад орхестрой. Хор во главе с корифеем выходил после окон-чания каждого акта. «Корифей, — восхищал-ся автор, — действительно казался ангелом, сошедшим с небес; сладчайшим голосом в ре-гистре сопрано, каковой направляло музы-кальное мастерство и удивительная скром-ность, самым безукоризненным образом ка-саясь теорбы, он руководил прекрасным строем»48.

Историческая перспектива
35
От исполнителей, отмечал о. Стефонио, здесь требовались «gravitas et dignitas», то есть важность и достоинство, приличествующие героям священной истории, но также и «mo-destia» — скромность, иначе говоря, дистанция, которую ученик-исполнитель должен был чувствовать по отношению к создаваемому им образу. Можно согласиться с М. Фумароли в том, что эти сформулированные Стефонио принципы исполнения коренным образом от-личали школьный театр от светского актер-ского искусства той эпохи49. Но теоретические и педагогические разработки вопросов актер-ской игры появятся у иезуитов позже, во второй половине XVII и в XVIII веке.
Образцовые трагедии Б. Стефонио акти-визировали антикизирующее направление в иезуитском театре. В XVII веке появится огромный массив неолатинских трагедий на темы из древней истории, особенно во Фран-ции, где это направление окажется близким, но не тождественным ведущему национальному стилю светской драмы — классицизму.
Помимо рассмотренных тенденций, в ран-ний период в различных коллегиях ордена рождались и далекие от канонов местные теа-тральные обычаи. Так, в коллегиях на юге Италии, на о. Сицилия приобрел популярность религиозный театр не на латыни, а на народном языке (диалектальный), включавший даже элемент импровизации в духе комедии дель
арте: эту практику развивал чрезвычайно пло-довитый иезуитский драматург и постановщик Ортензио Скаммакка (1562–1648), затем его последователь Томмазо Аверса и другие. Несо-мненной индивидуальной окраской обладали исторические произведения первого крупного немецкого драматурга ордена Якоба Грет-зера (1562–1625), работавшего в Мюнхене, Фрайбурге, Ингольштадте, не говоря уже о его преемнике Якобе Бидермане (1578–1639), с которого начинается следующий период — становление иезуитского барокко.
Но в начале XVII столетия в новых редак-циях педагогического устава ордена в ранг общего правила возводится запрет на исполне-ние в коллегиях «чужих» пьес: разучивать с учениками преподаватели могли исключи-тельно собственные латинские опусы, подго-товленные к конкретным мероприятиям; даже удачные произведения исполнялись единожды и не возобновлялись. Таким образом, драма-тургическое творчество стало все больше при-равниваться к профессиональным обязанно-стям, почти что к ремеслу. На следующем этапе своей истории театральная деятельность иезуитов будет все более упорядочиваться и унифицироваться, спектакли — встраиваться в регламент школьной жизни, в коллегиях начнут вкладывать огромные средства в по-стройку сцен, декорации и костюмы, вытесняя из практики индивидуальное творчество, про-явленное отцами-основателями.
1 Конец периода непрерывного развития школьного театра иезуи-тов датируют годом полного запре-та деятельности ордена (1773); однако в некоторых странах он был позднее восстановлен и суще-ствует до наших дней.
2 Stegmann A. L’héroïsme corné-lien: Genèse et signification: In 2 t. Paris, 1968. T. 2. Р. 16.
3 Гуманистической составляю-щей иезуитской педагогики в XVI в. посвящена, в частности, автори-тетная монография: Dainville F. de. La naissance de l’humanisme mod-erne. Paris, 1940. T. 1.
4 См. работы В. И. Резанова: Школьные действа XVII–XVIII вв. и театр иезуитов: Из истории русской драмы. М., 1910; Школь-
ные драмы польско-литовских иезуитских коллегий. Нежин, 1916; Школьная драма и театр иезуитов: Старинный театр в Рос-сии XVII–XVIII вв. М., 1923; сборник статей «Старинный спек-такль в России» (Л., 1928) со ста-тьями В. П. Адриановой-Перетц «Сцена и приемы постановки в русском школьном театре XVII–XVIII ст.», В. Н. Перетца «Теа-тральные эффекты на школьной сцене в Киеве и Москве XVII и начала XVIII веков» и публика-цией трактата немецкого иезуита XVIII в. Ф. Ланга «Рассуждение о сценической игре» в переводе В. Н. Всеволодского-Гернгросса.
5 Следует назвать в первую очередь труды Л. А. Софроновой:
Поэтика славянского театра XVII–XVIII вв.: Польша, Украина, Рос-сия. М., 1981; Польская театраль-ная культура эпохи Просвещения. М., 1985 и другие публикации.
6 Резанов В. И. Экскурс в об-ласть театра иезуитов. К истории русской драмы. Нежин, 1910.
7 Там же. С. 26.8 «Эврип» (Euripus) был впер-
вые сыгран 1 июля 1548 г. в Лу-венской коллегии Фокон и издан в Антверпене в 1549 г. Это одна из самых популярных школьных пьес второй половины XVI в., ставив-шаяся в 1550–1570-е гг. и в немец-ких землях, и в Испании. Реминис-ценции из «Эврипа» встречаются во многих драматических произ-ведениях эпохи. См. наиболее
Примечания

Театрон [1•2012]
36
подробный литературоведческий анализ пьесы: Valentin J.-M. Aux origines du théâtre néo-latin de la Réforme catholique: L’ «Euripus» (1549) de Livinus Brechtus // Val-entin J.-M. Theatrum catholicum: Les Jésuites et la scène en Allemagne au XVI-e et au XVII-e siècles. Nancy, 1990. P. 131–206.
9 Valentin J.-M. Les jésuites et le théâtre (1554–1680): Contribution à l’histoire culturelle du monde ca-tholique dans le Saint Empire romain germanique. Paris, 2001. Р. 204.
10 См.: Domingo Malvadi A. La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo: Un capitulo en la pedagogia del latin de la Compañia de Jesús en el Siglo XVI. Salamanca, 2001. Р. 107.
11 Вильгельм Гнафей, настоящее имя Виллем де Волдер (1493–1568) — нидерландский ритор, педагог, протестантский полемист, автор многих сочинений. В 1531 г. эмигрировал из Нидерландов в Восточную Пруссию из-за обви-нений в ереси, позже преследовал-ся лютеранами за симпатии к ана-баптизму. Самое известное его произведение, пьеса «Аколаст, или о Блудном сыне» (Acolastus, de Filio Prodigo), было создано после освобождения из тюрьмы в Гааге в 1528 г. (впервые напечатана в 1529 г., многократно переиздава-лась и переводилась на многие европейские языки). Ему принад-лежат также школьные комедии: «Триумф красноречия», «Лице-мер», «Морософ» (сатира на астро-лога, где, возможно, высмеивался Н. Коперник и его гелиоцентриче-ская теория; пьеса не сохрани-лась).
12 Teatro escolar latino del siglo XVI: La obra de Pedro Pablo de Acevedo, SI: In 2 t. Madrid, 1997–2007; Domingo Malvadi A. La pro-ducción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo. (В приложении к этой работе 2001 года изданы пьесы и диалоги Асеведо в латин-ском оригинале и переводе на ис-панский язык.)
13 См., напр., в обзоре истории театра иезуитов по всей Европе, данном в: Stegmann A. L’héroïsme cornélien. T. 2. Р. 20–21.
14 González Gutiérrez C. El teatro en los colegios de jesuitas del Siglo de oro: Bibliografía actualizada y comentada // Entemu. 2003. № 15. Р. 82.
15 В следующем году П. П. де Асеведо, вместе с Х. Бонифасио (основоположником иезуитского театра в Кастилии) получил на-значение в новую Императорскую коллегию в Мадриде, но скоропо-стижно скончался по приезде в столицу.
16 См.: Domingo Malvadi A. La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo. Р. 108.
17 Цит. по: Ibidem. Р. 109.18 Цит. по: Ibidem. P. 113.19 Св. Екатерина Александрий-
ская — юная христианка, победив-шая в ученом диспуте языческих мудрецов, стала одной из излю-бленных героинь всего иезуитско-го театра. П. П. де Асеведо соста-вил несколько диалогов и эклог для праздника св. Екатерины.
20 Цит. по: Domingo Malvadi A. La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo. Р. 115.
21 Из пространного отчета о. Асеведо И. Лойоле от 1 сентя-бря 1561 г. Цит. по: Ibidem. P. 116.
22 Возможные влияния раннере-нессансной испанской религиоз-ной драматургии на о. Асеведо рассмотрены в кн.: Saa O. E. El teatro escolar de los jesuitos en Es-paña. New Brunswick; N. J., 1990. Р. 105–111.
23 См.: Domingo Malvadi A. La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo. Р. 192.
24 Acevedo P. P. Philautus // Do-mingo Malvadi A. La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo. Р. 271.
25 Acevedo P. P. Lucifer furens // Domingo Malvadi A. La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo. P. 200–201.
26 См.: Surtz R. E. El teatro en la Edad Media // Historia del te-atro en España / Ed. de J. M. Díez Borque: In 2 t. Madrid, 1983. T. 1. P. 118.
27 Sánchez de Badajoz D. Farsa militar // Sánchez de Badajoz D. Farsas / Ed. de J. M. Díez Borque. Madrid, 1978. P. 257.
28 Acevedo P. P. Lucifer furens // Domingo Malvadi A. La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo. Р. 213.
29 Acevedo P. P. Philautus // Do-mingo Malvadi A. La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo. Р. 270.
30 Acevedo P. P. Lucifer furens // Domingo Malvadi A. La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo. Р. 220.
31 Ibidem. Р. 224.32 Ibidem.33 См.: Ramon Ruiz F. Historia del
teatro español. Madrid, 1971. P. 109–110.
34 Tragedia de San Hermenegildo / Introducción, edición y notas de C. Gonzáles Gutiérrez. Gijon, 1993.
35 Цит. по: Soriano J. G. El teatro universitario y humanístico en Es-paña. Toledo, 1945. Р. 87.
36 Подробнее об этой пьесе, ко-торая, как доказано специалиста-ми, могла быть известна Шекспи-ру при создании его образа Жанны в хронике «Генрих VI», см., в част-ности: Некрасова И. А. Жанна д’Арк — героиня французской ре-лигиозной трагедии // Вопросы театра / PROSCAENIUM. 2010. № 1–2. С. 297–307.
37 Его имя было извлечено из тьмы забвения в конце XIX в. французским собратом по ордену Ж. Мавелем. См.: Mavel J. Une trilogie dramatique au XVIe siècle: Le P. L. Crucius // Études religieuses, philosophiques, historiques et litté-raires. 1878. T. 1. P. 112–125, 170–184.
38 Об этом шотландском ученом и драматурге, пострадавшем от португальской инквизиции, см.: Некрасова И. А. Джордж Бьюкенен и его библейские трагедии // Теа-трон. 2009. № 2. С. 21–32.
39 Mavel J. Une trilogie drama-tique au XVIe siècle: Le P. L. Cruci-us // Études religieuses, philoso-phiques, historiques et littéraires. 1878. T. 1. P. 116.
40 На тот же сюжет будет напи-сана, в частности, лучшая трагедия французского ренессансного поэта Робера Гарнье «Еврейки» (1583).
41 Crucius L. Praefatio // Crucius L. Tragicae, comicae que actiones. Lyon, 1605. [P. 18.]

Историческая перспектива
42 Цит. по: Boysse E. Le théâtre des Jésuites. Paris, 1880. Р. 18.
43 Творчество этого автора так-же привлекает внимание совре-менных ученых. См.: Filippi B. Il teatro di un gesuita siciliano: Stefano Tuccio SI. Roma, 2002.
44 Сразу после первого издания в Риме в 1601 г. «Крисп» появился в Понт-а-Муссоне в 1602 г., затем был
перепечатан в Лионе и в Неаполе (в новой авторской редакции) в 1604 г.; в Антверпене в 1608 г.; еще раз в Лионе в 1609 г.; в Руане в 1610 г. «Флавии» издавались в Риме в 1620 г., в Париже и Понт-а-Муссоне в 1622 г. и во Флорен-ции в 1647 г. Такого распростране-ния не имела ни одна иезуитская пьеса.
45 Fumaroli M. Héros et orateurs: Rhétorique et dramaturgie corné-liennes. Genève, 1996. Р. 144.
46 Цит. по: Ibidem. Р. 152. (Из пись-ма о. Стефонио от 4 августа 1604 г.)
47 Цит. по: Ibidem. P. 153.48 Цит. по: Ibidem. Р. 155. (Из
письма о. Стефонио от 4 августа 1604 г.)
49 См.: Ibidem. Р. 157.

38
Памяти Николая Михайлова
ПреамбулаВ «Прикованном Прометее» Эсхила впер-
вые на сцену — театра и истории — выходит персонаж, который станет моделью-архетипом для всех последующих бунтарей, но для него образцом был бог-жрец, совершивший риту-альную неправильность и понесший за это наказание. Собственно, этот путь — от жреца до бунтаря — прошел Прометей. Эта ритуаль-ная основа мифа Прометея всегда должна при-ниматься во внимание при анализе трагедии Эсхила: соприкасаясь с древним текстом, будь то комедия или трагедия, мы входим в другую знаковую реальность, которая строится по дру-гим знаковым отношениям. Ритуал был знако-вой системой par excellence, определявшей бытие архаического человека во всех его аспек-тах, сознательных и бессознательных, коллек-тивных и индивидуальных.
Следует заметить, что авторство древних текстов условно, имеет более знаковый харак-тер, чем «буквальный». Сомнению подвергает-ся даже авторство Эсхила, хотя, в отличие от мифических Гесиода и Гомера, Эсхил был ли-цом историческим, участвовал в качестве го-плита в великих битвах своего времени, опреде-ливших ход истории. Если бы не свободные афинские граждане, Греция сделалась бы пер-сидской сатрапией. Зевс, прежде чем назначить соразмерное провинности наказание, дает Про-метею полную волю выговориться — восточный деспот содрал бы с него живьем кожу, не став даже слушать, и повесил бы на столб в назида-ние базарным болтунам.
Этот перенос демократии с земли на небо (или с неба на землю) мог произойти только в свободных Афинах, а подлинным бунтарем мог быть только свободный гражданин, способ-ный противопоставить существующей системе ценностей свою собственную, сколь бы ложной она ни была, и отстаивать ее публично и во
всеуслышание. Без свободы нет бунта как осмысленного протеста, противоположного бессмысленному беснованию раба. А посему, сколько бы филологи ни сомневались в автор-стве Эсхила, в одном сомневаться невозможно: автор этой великой трагедии был афинский гражданин, ставший свидетелем рождения духа свободы, а также духа бунтарства как темной стороны впервые явившейся свободы, полити-ческой и интеллектуальной.
Сказанное выше должно дать представле-ние о трудности перевода древнего текста, принадлежащего к совсем другой знаковой реальности, которая для большинства пере-водчиков остается совершенно закрытой. Теа-тральный режиссер, который задумал поста-вить «Прикованного Прометея», но греческого не знает, обратится к переводам А. Пиотровско-го или С. Апта как самым известным и общедо-ступным.
Режиссер работает с текстом, являющим-ся для него основой, на которой строится все остальное, а посему совершенно свободным от текста он быть не может. Опираясь на перевод Пиотровского, вместо Эсхила он поставит оптимистическую трагедию о герое-страдальце, освободившем порабощенное человечество от власти завистливых богов, а хор пропоет у него частушки, вроде этой: Ранним утром пусть не забуду / Богов покормить говяжьим мясом, / Жиром бычачьим (528–530)1.
Создается впечатление, что это не хор божественных Океанид, а деревенские скотни-цы, которые весело поют: встать спозаранку, покормить коров. Вот как эти стихи звучат в до-словном переводе: и не остановлюсь я в без-действии, со священными / пиршественными дарами к богам приближаясь, / закланием быка сопровождаемыми (529–531). Здесь мы при-сутствуем при событии, составляющем са-кральный центр архаической ритуальной си-стемы, а посему всякая ошибка в переводе становится фатальной для понимания текста.
М. Евзлин
Бунтующий бог в «Прикованном Прометее» Эсхила

Театр и драматургия
39
В «Теогонии» Гесиода рассказывается о жертвоприношении быка, совершение кото-рого боги поручают Прометею (535–557). Это — первое упоминание о Прометее в грече-ских источниках, в котором явно проглядывает его первоначальное жреческое качество. От-сюда идет его миф, переходя через несколько столетий на театральные подмостки, с которых он перемещается на сцену истории, порождая новый миф о культурном герое, бунтаре, вос-ставшем против богов из-за любви к человече-ству. К этому мифу, создателями которого были английские романтики и немецкие филологи, трагедия Эсхила имеет весьма отдаленное от-ношение, хотя и послужила для него материа-лом. У Эсхила за маской бунтующего бога проглядывает демагог-кликуша, приписываю-щий себе все блага, которые имеют не только люди, но даже боги. В какой-то момент трагедия переходит в сатиру, речи «героя» — в безудерж-ное самовосхваление, в котором теряется вся-кая реальность.
Поскольку мы говорим о мифологическом сюжете, следует также заметить: миф существу-ет не абстрактно, а только в конкретном кон-тексте. В «Теогонии» Гесиода миф сохраняет свой первоначальный ритуальный контекст: Прометей — это жрец, который совершает об-манное жертвоприношение. С жертвоприноше-нием соединяется другой миф — о похищении огня. В «Трудах и днях» присутствует миф о похищении огня, но отсутствует сказание об обманном жертвоприношении. За похищением следует миф о деве Пандоре и сказание о чело-веческих родах. Этого последнего нет в «Тео-гонии», о людях говорится только в нескольких стихах, т. е. в ней практически отсутствует ан-тропогония, которая составляет основу «Тру-дов и дней».
Очевидна связь между жертвоприноше-нием и огнем. Здесь следует обратиться к ин-дийским источникам, с которыми греческие имеют общее индоевропейское происхождение. Огонь есть пожиратель жертвы, а посему яв-ляется священной субстанцией. Божественный мудрец Бхригу проклинает бога огня Агни за то, что он раскрыл имя его жены Пуломы демону-ракшасу, который ее похитил. И тогда «Агни извлек себя из всех жертвенников дваж-дырожденных, из мест различных жертвопри-ношений и обрядов». В результате «от прекра-щения жертвенных и религиозных обрядов,
последовавшего из-за исчезновения огня, при-шли в беспорядок три мира»2. Сходную ситуа-цию можно предположить в отношении огня, который похищает жрец Прометей. В действи-тельности речь идет не о похищении, а о пере-мещении священной субстанции, символизи-руемой огнем, в профанную сферу, в результате чего происходит нарушение правильного функ-ционирования космосистемы.
Трагедия Эсхила разворачивается в двух планах — один открытый, а другой скрытый, присутствующий как подтекст, с которым дей-ствие постоянно соотносится. Этим подтекстом для «Прикованного Прометея» является «Тео-гония» Гесиода. Греческий зритель, который хорошо знал священную историю своих богов, без сомнения, соотносил Эсхилова Прометея с нормативным образом, зафиксированным в поэме Гесиода. Это означает, что текст Эсхи-ла останется абсолютно закрытым, если не учитывается другой текст, являющийся для него фоном, на котором разворачивается дей-ствие. Соответственно, если затемняется основ-ной текст, то вдвойне темным делается вторич-ный, от него зависящий.
Обозначив «Теогонию» Гесиода как по-стоянно, хотя и незримо, присутствующий фон трагедии Эсхила, мы можем перейти к анализу текста. Во всех случаях дается наш дословный перевод — не филологический, когда перево-дятся только слова, и не всегда точно, и еще меньше поэтический, озабоченный «красота-ми», а перевод семиотический, стремящийся передать знаковую реальность, в которой раз-ворачивается трагедия не только Прометея, но и всех присутствующих и отсутствующих, бо-гов и людей.
Происхождение ПрометеяСущественно для прояснения «личности»
Прометея отметить несовпадения двух версий его происхождения.
По Гесиоду, Прометей — сын Иапета, сына Геи и Урана, и океаниды Климены (Th. 507–510).
В трагедии Эсхила Прометей говорит о себе как о сыне Фемиды-Геи, добавляя, что у нее «многих имен форма одна» (212).
По Гесиоду, Фемида, дочь Геи и Урана, — вторая супруга Зевса (Th. 901), а посему, называя Фемиду своей матерью, Прометей, по видимости, дает понять, что его отец — Зевс,

Театрон [1•2012]
40
но не говорит прямо, подводя своих слушатель-ниц к этому заключению, которое должно вы-звать еще большее сочувствие к его страданиям со стороны Океанид.
Возведение своего происхождения к Гее-Земле позволяет Прометею представиться «древним» богом, превосходящим по старшин-ству «богов тирана» Зевса (224). Присутствие Океана (286–398), казалось бы, должно слу-жить подтверждением принадлежности Про-метея к первым богам, детям Геи и Урана. Свое прибытие Океан оправдывает родством с Про-метеем (291).
Важно отметить, что на первом месте для Океана стоит род (γένος), а родство (συγγενές) с Прометеем имеет значение в той мере, в какой он принадлежит к роду Океана, что определяет заинтересованность древнего бога в судьбе своего родича в несравненно большей степени, чем просто сочувствие или сострадание. Более того, принадлежность к единому роду, как о том говорит Океан, имеет для него принудительный характер, и не в общем смысле, а в очень кон-кретном. И в самом деле, Прометей, по Ге-сиоду, — сын брата Океана Иапета и его дочери Климены.
Архаическая система родства шла по жен-ской линии. В «Орестее» смена одной системы родства на другую составляет одну из главных тем трагедии. Но в «Прикованном Прометее» архаическая система продолжает оставаться в полной силе, во всяком случае для богов, вы-шедших непосредственно из лона Земли-Матери. И поэтому около Прометея стоят Океаниды, родные сестры его матери, указывая со всей определенностью на его род. А посему приписывание себе нового происхождения вос-принималось, надо думать, греческим зрителем, хорошо знакомым с гесиодовской генеалогией Прометея, как новый обман знаменитого ми-фического персонажа.
«Старые» и «новые» богиВ качестве общего места повторяется, что
трагедия Эсхила имеет своим фоном «борьбу за господство над космосом между старыми и новыми богами»3. «Старые» боги отождест-вляются с Титанами, детьми Геи и Урана, а «но-вые» — с детьми Крона и Реи. Эта схема не функционирует даже в отношении «Теогонии», но в еще меньшей степени приложима к траге-дии Эсхила. Если отойти от комментариев и пе-
реводов и обратиться непосредственно к гре-ческому тексту «Теогонии», не находится никаких оснований для утверждения, что «ста-рые» боги, сыновья Геи и Урана, борются про-тив «новых» богов, сыновей Крона и Геи, а также для отождествления «старых» богов с Титана-ми. Эти последние представляют особую груп-пу божественных существ, безличных и исклю-чительно мужских, противостоящих как детям Геи и Урана, так и детям Крона и Реи, богам и чу-довищам4. Старейший бог Океан, первое со-вместное порождение Геи и Урана (Th. 133), в лице своей старшей дочери Стикс принимает сторону Зевса в борьбе против Титанов (Th. 397–398), а также вместе с другими своими братья-ми отказывается принимать участие в «деле» Крона (Th. 167–168). Нет ни одного случая, где Океан проявил бы склонность к р и скован-ным предприятиям, которая отличает его не-поседливого внука Прометея. Это логически следует из космологической функции Океана: Океан есть крайний предел организованного мира, гарантирующий его стабильность, а по-сему он не может выйти из определенного для него кругового движения.
Как соучастника Прометея в борьбе про-тив «новых» богов представляет Океана ан-глийский переводчик текста Эсхила: «The reading of the MSS can only mean that Oceanus had participated throughout in the rebellion of Prometheus; whereas, in l. 236, Prometheus ex-pressly declares that he had no confederate in his opposition to Zeus»5. Это утверждение никак не следует из текста и контекста. Прометей при-кован вовсе не потому, что принял сторону Титанов в борьбе против Зевса, а за похищение огня. Кратос говорит Гефесту: твой цветок, во всех ремеслах полезное огня сияние, / похитив, смертным доставил. Вот за такое / прегреше-ние перед богами должен претерпеть он нака-зание (7–9). К этому преступлению Прометея Океан не имеет никакого отношения, как и ко всем другим затеям своего родича.
В возбужденном воображении Прометея похищение огня смешивается с его участием в борьбе на стороне Титанов, от которых он пере-шел к Зевсу в надежде иметь бóльшие выгоды, как он сам об этом рассказывает: Наилучшим в этих обстоятельствах / мне казалось, взяв с собой мать, / по собственной воле Зевсу по-могать (218–220). Его превращение в против-ника новых богов и защитника людей проис-

Театр и драматургия
41
ходит в тот момент, когда Зевс раздает почести (γέρα. 231), которые в отношении себя Проме-тей расценивает как недостаточные, ведь это ему Зевс обязан своей властью: смотри на это зрелище Зевса друга, / совместно с ним устано-вившего тиранию (306–307).
Разделение на старых и новых богов, между прочим, отсутствует в словах самого Прометея: как скоро охватила демонов злоба / и раздор между одними и другими поднялся (201–202). К демонам, таким образом, относят-ся различные классы сверхъестественных су-ществ: противники Зевса, Титаны, и его сторон-ники, боги. Во всех случаях слово δαίμων употребляется во множественном числе. Его использует Кратос: ложным именем Прометея демоны тебя / зовут (85–86); девушка-корова Ио, рассказывая о своих несчастьях: как следу-ет / поступать или говорить, чтобы демонам угодить (659–660). Во всех других случаях слово δαίμων употребляет Прометей: как скоро охватила демонов злоба (201); как только на отцовский трон / воссел, сразу же демонам другим почести стал раздавать (230–231); чтобы демонам приятны были (494).
В первом случае Кратос явно разумеет под демонами противников Зевса, которые зовут Прометея ложным именем προμηθεύς, т. е. предусмотрительным, прозорливым. Во вто-ром — Прометей имеет в виду всех божествен-ных существ, которые жили в первоначальном мире, когда землей и небом правил Крон. Эти последние не имели между собой разделений: они появляются после создания дуального космоса, который возникает в результате по-беды Зевса над Титанами.
В третьем — Прометей говорит о раздаче даров демонам. Демоны здесь — боги, приняв-шие сторону Зевса и поэтому получившие γέρας (дар). Слово γέρας означает также преимуще-ственное право, особую почесть, т. е. получение γέρας здесь знаменует переход из безличного состояния демона в личное качество бога, имеющего свою особую почесть, связанную с космической областью, которой он управляет, и, соответственно, жертвенные приношения.
Раздавая γέρας, Зевс организует мир по дуально-иерархическому принципу, против которого выступает Прометей, пытаясь вернуть его к изначальному состоянию, когда были только демоны, не имевшие в себе и между со-бой никаких разделений. С этой точки зрения
Прометея с полным основанием можно назвать реакционером. И в самом деле, не имеет ли ре-акционер своей целью возвращение к тому, что было? А что было? Это всегда остается в нео-пределенности, а посему, желая вернуться к тому, что было, реакционер, создает то, чего никогда не было, и, к своему удивлению, ста-новится революционером.
В двух других случаях слово δαίμων упо-требляется в контексте гаданий: здесь демоны выступают как духи земли, обнаруживая свой изначальный хтонический характер. Наимено-вание божественных существ демонами, таким образом, сохраняет у Эсхила значение, отсы-лающее к первоначальному миру, когда не было разделений и все существа были единой груп-пой, прикрепленной к общей для всех хтониче-ской основе. Расщепление этой ранее единой группы, отрыв одних существ от хтонической первоосновы в итоге приводит к созданию дуального космоса и образованию двух про-тивостоящих групп сверхъестественных су-ществ — небесных богов и хтонических демо-нов, между которыми «затесался» Прометей, не зная, к кому примкнуть, поскольку раздво-ился в самом себе. В этом пункте, когда разде-ление появляется не вовне, а в себе, рождается трагедия. И не только Прометея, но также Океанид, дочерей старейшего бога Океана.
Определение νεός (новый, молодой) со словом θεός (бог) встречается только в двух местах: этим новым богам дары / кто другой, как не я, сполна назначил (439–440); уж не ду-маешь ли ты, что страшусь я и робею новых богов? (959–960). Совершенно очевидно, это νεός имеет здесь исключительно политическое значение: для Прометея все боги новые, потому что они — боги. Отношение Прометея ко всем богам выражено ясно: одним словом, всех нена-вижу я богов (975), т. е. он ненавидит богов, будь они новые или старые, потому что они перешли из низшего хтонического, или демонического, состояния в божественное, а он, Прометей, остался демоном, не имеющим никакой опреде-ленной функции-почести. А посему он задумал превратить смертных людей в новых богов, которые заставили бы забыть старых. Следует признать, что в значительной степени он пре-успел в этом намерении, но для этого ему надо было обмануть не только богов, но также и пре-жде всего людей.

Театрон [1•2012]
42
Знание или незнаниеВначале прикованный к скале Прометей
пребывает в полном отчаянии. Слыша какой-то звук, предчувствуя появление публики, но не зная, будет ли она к нему сочувственной или враждебной, он представляется жертвой не-справедливости, страдающей исключительно из-за своей любви к смертным:
смотрите на меня прикованного, злосчастного бога,врага Зевса, всем богамненавистного, всем, ктов дом Зевса входит,из-за чрезмерной любви к смертным(118–122).
Сначала самого себя, а потом хор Океа-нид Прометей пытается убедить, что он всë знал и знает. В самом ли деле Прометей всë знал? Трагедия Эсхила может рассматри-ваться как анализ знания Прометея и обна-ружение его ложности. Тема ложности, ошибочности задается с самого начала в сло-вах Кратоса: ложным именем Прометея демоны тебя / зовут (85–86:). Рассказывая о своих благодеяниях смертным, Прометей удивляется, что он должен терпеть наказа-ние:
Смертным дар доставив, этим пыткам обреченный, страждущий;заключенный в нартеке добыл огняисточник, похитив, который учителем всех уменийдля смертных явился и великой прибылью.За эти прегрешения кару несу,под открытым небом, в оковах пригвожденный (107–113).
И хотя в речах Прометея проскальзывает слово άμπλακημάτων (от άμπλάκημα — просту-пок, ошибка), он не подвергает ни малейшему сомнению полезность огня для людей, т. е. по-хищение огня ошибочно и преступно не само по себе, а с точки зрения завистливых богов, не-справедливо его наказавших. В своей версии событий Прометей не говорит о похищении огня — только о своем сострадании к людям:
Как только на отцовский тронвоссел, сразу же демонам другим почестистал раздавать и властью наделять;а для смертных несчастных словане имел никакого, но, истребив весь род,другой желал насадить, новый.И никто этому не воспротивился, кроме меня.Один я осмелился: не позволил смертным,насмерть пораженным, в Аид сойти.И вот под этими бедствиями склоняюсь,мучительными терпеть, внушающими жалость видеть.Смертных из сострадания предпочтя,сам сострадания не удостоился, но так безжалостносо мной обошлись, Зевсу позорное зрелище (230–243).
Остается непонятным, по какой причине Зевс желал уничтожить смертный род, а на его место поставить новый. Современный Эсхилу зритель, надо полагать, сразу отмечал различия между «старой» историей человеческих родов Гесиода и «новой» Прометея. Согласно Гесиоду, было пять родов (Ор. 109–201), по словам Прометея — только один, который Зевс по какой-то непонятной причине хотел уничтожить, а он не позволил ему это сделать. И в самом деле, по словам Прометея, в борьбе за господство участвуют только демоны и Ти-таны (201–207). Всякое упоминание о людях отсутствует, если не считать «людьми» демо-нов, боровшихся против Зевса6, а посему пере-шедших в низшее состояние смертных людей, на что, как кажется, указывает определение сторонников Зевса как других демонов (δαίμοσιν ἄλλοισιν). Появляются люди вдруг, но со впол-не определенной целью: они должны объяснить настоящее положение Прометея и вызвать к нему сочувствие по крайней мере со стороны Океанид, что ему удается, но не убедить их в правильности своих действий.
Наказание Прометея воспринимается Океанидами как вполне оправданное, когда они узнают о похищении огня, определяя его как ошибочное и преступное: ούχ όρᾷς ὅτι / ἥμαρτες; (261–262: не видишь, что / ошибся?). Глагол άμαρτάνω означает ошибаться, провиниться, уравнивая ошибку и провинность: Прометей ошибся, потому что провинился, и провинился,

Театр и драматургия
43
потому что ошибся. Это — логический вывод, ведь полезность огня для смертных должна только выявиться, а в данный момент люди живут слепыми надеждами, которые вселил в них Прометей. Надеждами на что? На бес-смертие? Кажется, это имеет в виду Прометей, когда говорит, что благодаря ему смертные более не в состоянии провидеть свой жребий (μόρον), т. е. смерть. Но если сейчас люди не знают своего смертного жребия, значит ли это, что раньше они его знали и Прометей освобо-дил их от знания, которое заставляло их стра-дать? И возможно ли заставить смертное суще-ство забыть о своей смертности?
Смертность определяется как болезнь, от которой нет излечения. И в самом деле, лекар-ство, которое изобрел Прометей, — это слепые надежды, оно не излечивает, а только заставля-ет забыть о болезни. Однако сами по себе на-дежды оказываются недостаточными, и поэто-му к дару забвения Прометей прибавляет дар огня, который этим надеждам, хотя и слепым, должен дать видимость реальности, внушить людям, что с помощью технического средства, каким является огонь, они смогут стать бес-смертными, как боги. Но все это относится не к настоящему, а к неопределенному будущему, когда люди овладеют с помощью огня искус-ствами и умениями.
Знание Прометея, таким образом, как с прак-тической стороны, так и с теоретической ока-зывается столь же слепым, как и надежды лю-дей, для которых он похитил огонь. Равным образом это относится и к бессмертию Про-метея, которое, как он утверждает, является для него надежной защитой от всех бед. Отвечая Гермесу, Прометей бросает вызов всем стихиям:
пусть бросает в меняраздвоенную молнию извивающуюся, небодрожать заставляет громом и вихрямибурными; землю от основания исамых корней ветр пусть сотрясает,волны моря бурно ревущиесмешает с путями небесныхзвезд; в мрачныйТартар, с непреклонными водоворотами судьбы,вверх подняв, пусть бросает тело мое;в любом случае смерти предать меня он не сможет (1043–1053).
В самом ли деле Прометей является бес-смертным и не тешит ли он себя слепыми на-деждами? Ответ на этот вопрос зависит от выяснения значения бессмертия в отношении внутримировых богов, т. е. родившихся от Геи и Урана, а не вышедших, как Земля, непосред-ственно из Хаоса. Этот последний отожествля-ется Гесиодом с бездной великой, которую даже боги ненавидят. Отчего даже бессмертным бо-гам она внушает ненависть и ужас? Потому что здесь земли темной и Тартара мрачного, / моря пустынного и неба звездного, / друг подле друга всего истоки и пределы пребывают, / тягост-ные, промозглые (736–739)7, т. е. здесь находит-ся исток бессмертия богов, а также его предел, где оно оканчивается, поскольку оканчивается космологическая сфера, с которой соотносится существование богов, уходя в добытийствен-ную бездну, древний хаос.
И хотя Прометей называет себя богом, его бессмертие более чем сомнительное. Аполлодор рассказывает о кентавре Хироне, раненном ядовитой стрелой: «Рана была неизлечимой, и кентавр удалился в пещеру, желая там уме-реть. Однако умереть он не мог, так как был бессмертен: тогда Прометей предложил себя Зевсу в обмен, тот сделал его бессмертным, а Хирон скончался»8. В качестве своего источ-ника этот рассказ имеет, как можно предполо-жить, слова Гермеса, обращенные к Прометею:
Смотри же, если к моим словам не прислушаешься,какие на тебя несчастья и лавина бедствийустремится неотвратимая: так вот, прежде всего скалуэту обрывистую громом и пламенем грозовымотец разобьет, и сокроет тело твое,в каменные недра тебя перенесет.По истечении длительного времениобратно на свет выйдешь; Зевсакрылатая собака, кровожадный орел, жаднорвать будет плоть твою на многие куски,незваный участник пира, вгрызающийся ежедневно,черную истерзанную печень твою выедать будет.Этой муки окончания не ожидай,пока кто-то из богов преемником твоих страданий

Театрон [1•2012]
44
не явится и согласится в мрачный Аидотправиться и темную глубину Тартара (1014–1029).
Это описание расширяет рассказ Гесиода:
Связал также неразрывными узами Прометея, богатого на выдумки,оковами тяжелыми, сквозь срединную колонну поразив.И напустил на него орла ширококрылого; он печеньпоедал бессмертную, но она за ночь вырастала столь же крутой,ровно сколько за весь день съедала ширококрылая птица (Th. 521–525).
Эсхил соединяет наказание Прометея с наказанием Менетия, которого Зевс / в Эреб низвергнул, поразив полыхающей молнией / за нечестие и силу высокомерную (Th. 514–516). Отправляя Менетия в Эреб, т. е. темную сферу, сливающуюся с первобытным хаосом, Зевс редуцирует ставшую непродуктивной (и поэто-му опасной и нечестивой) силу Менетия до по-тенциального состояния, которое уравнивается со смертью. Это равенство потенциальности со-стоянию смерти или глубокого сна (κῶμα) обо-значено в рассказе о клятве стиксовой водой:
Если кто этой водой совершив возлияние, ложно поклялсяиз бессмертных, что владеют вершиной снежного Олимпа,лежит он бездыханный до свершения года;никогда не подходит ко вкушению амвросии и нектара,но лежит бездыханный и безмолвный,распростертый на ложе, и злой сон его укрывает (793–798).
Прометей, таким образом, переоценивает свое бессмертие как защиту, делающую его неуязвимым для всякого действия со стороны Зевса, в чем ему сразу приходится убедиться. Он явно не ожидал, что от слов Зевс незамед-лительно перейдет к делу: и вправду, на деле, а не на слове / земля всколебалась (1080–1081); и, забывая о своей недавней уверенности, что с ним ничего не может случиться, перед тем как провалиться под землю, в страхе восклицает:
Вот такое (стихий) неистовство,страх вызывая, по воле Зевса идет на меня явно.О матерь моя священная, о небо,кружащее свет, на всех распространяющийся,ты видишь, как несправедливо страдаю! (1089–1093)
На собственном теле Прометей убеждает-ся, что Зевс может предать его смерти, хотя в той специфической форме, в какой смерть может относиться к согрешившему богу, а имен-но: злого бездыханного сна, равного смерти. В этом пункте обнаруживается несостоятель-ность знания Прометея не только в отношении прошлого и будущего, но и собственной при-роды демона. Ведь, оставшись без почести, он не поднялся до состояния бога, а посему при-писывает себе качества — бессмертие и про-видение, — которые только бог может иметь, и то в ограниченной мере. Совсем не случайно, что значительное место в трагедии занимает история девушки-коровы Ио (561–886). Она особенно важна, поскольку здесь Прометей вполне разворачивает свой метод, с помощью которого он достигает знания того, что было, и того, что будет.
Ио, или Путь судьбыВерсия событий, сообщаемая Ио:
Вот такие видения всякую ночьосаждали меня, несчастную, пока отцуосмелилась я рассказать ночные сны.И он в Пифо и Додону многихвестников отправлял, чтобы узнать, как следуетпоступать или говорить, чтобы демонам угодить.И возвращались они, возвещая двусмысленныеоракулы, темные и неясно говорящие.Наконец пришло вещее слово Инаху,внятно возлагающее <на него> и повелевающее <ему>из дома и земли родной изгнать меня,вольную блуждать по крайним пределам земли;и если не пожелает <он>, Зевсом посланнаяогненноликая молния весь род полностью

Театр и драматургия
45
уничтожит.Вот этими прорицаниями Локсия убежденный,изгнал <он> меня из дома, нежелающую, и закрыл его,вынужденный; но принуждала егоузда Зевса силой поступать так.И сразу же вид <мой> и ум обезображеннымисделались; и рогатая, как видите, оводомс острым жалом жалимая, безумными прыжкамиустремилась я к приятному для питья Керхнийскомупотоку и источнику Лерны (655–677).
Версия Прометея тех же событий, которую он дает в доказательство своего ума, видящего, как он говорит, больше, чем являет (843):
Итак, после того как пришла ты в Молосские земли,расположенные высоко в горах, около Додоны, гдепрорицательское седалище находится Феспротского Зевса,диво несказанное, вещие дубы,под которыми ясно и не загадочноты слышала, что Зевса супругой славнойпредназначена <ты> быть. Это прельщает тебя как-то?Отсюда, ужаленная, по идущей вдоль берегадороге устремилась <ты> к великому заливу Реи,откуда ты бросилась в обратном направлении (829–838).
Согласно Ио, Инах посылает в Додону вестников, чтобы узнать волю Зевса, после чего изгоняет ее из дома, и она сразу же превраща-ется в корову; ее жалит овод, и она бежит к ис-точнику Лерны.
Согласно Прометею, Ио сама идет в Додо-ну (в измененном ли образе или прежнем, остается без разъяснения), где получает пред-сказание, что ей суждено стать супругой Зевса, после чего ее жалит овод и она бежит к заливу Реи, который в память о ее блужданиях будет называться Ионийским.
Эти расхождения между двумя версиями можно объяснить двояким образом: или Ио
в состоянии умопомрачения, в котором она находится, не помнит в точности, что с ней произошло; или Прометей, занятый своими мыслями, едва слушал ее, а если слушал, на-меренно извратил ее рассказ, чтобы предста-виться знающим больше, чем непосредствен-ный участник событий. Это последнее предположение вполне соответствует намере-ниям Прометея: убедить всех, что ему отрыто то, что скрыто от всех других, в том числе от Зевса, несмотря на его всемогущество.
В доказательство своего всезнания Про-метей пророчествует о судьбе Ио и о своей собственной: из этого рода выйдет отважный воин, / луком своим славный, который от этих мук меня / избавит (871–873). Весьма значи-тельно заключение: такое предсказание ораку-ла передала мне / древнерожденная мать моя Титанида Фемида (873–874). Ссылаясь на Фемиду, Прометей явно чувствует нужду в менее сомнительном авторитете, чем он сам, но при этом умалчивает, как он получил это предска-зание, под тем предлогом, что об этом нужно долго рассказывать (875).
Прометей противоречит сам себе, толкуя рассказ девушки-коровы. Вначале он говорит, что должна дева / страдания претерпеть от Геры (703–704), но заключает свою пророче-скую речь следующим образом: не кажется вам, что / властелин богов во всех отношениях / есть чинящий насилие? И в самом деле, бог, желаю-щий / соединиться с этой смертной, обрек ее на эти скитания (735–738), совсем забывая о Гере и объявляя Зевса единственной причиной всех насилий и несправедливостей.
Впрочем, еще раньше Гера называлась виновницей бед девы: она Зевса сердце воспла-менила / любовью, и ныне Герой ненавидимая / нескончаемыми бегами / силой изнуряется (590–592). Вроде бы и сама Ио считает своей мучительницей Геру: скачками, от голода / жестокого стремительная, пришла я, <Геры> / мстительным замыслам подчиненная (599–601), но здесь мы имеем предположительное чтение. Отсутствие имени нисколько не по-вредило бы пониманию фразы: ведь изгоняется Ио своим отцом не по приказу Геры, а после того, как тот получает предсказание от Апол-лона Локсия, который пророчествовал в Пифо, куда Инах посылал вестников. Далее подчер-кивается, что принуждала Инаха так поступать узда Зевса (672). Еще раньше Ио обращается

Театрон [1•2012]
46
к Зевсу: Как долго, о сын Крона, как долго в эти / несчастья впрëг ты меня, / сочтя, что я про-винилась? (578–580).
Таким образом, Гера здесь, во всяком слу-чае в этой версии мифа, фактически отсутству-ет, и направляет движение Ио по земному кругу исключительно Зевс. С какой целью? По мысли Прометея, в соответствии с его «идео-логической» установкой, тиран Зевс поступает так, следуя своим капризам, готовый учинить любое насилие и зло, чтобы их исполнить. С точки зрения мифологической действия Верховного бога всегда определяются объек-тивной космологической необходимостью, которая вполне обозначается в движении Ио по опасным землям, населенным хтоническими существами. Всё хтоническое по определению есть закрытое и непространственное. После того, как божественная корова проходит по этой хтонической окраине мира, она разуплотняет-ся, раскрывается, входит в единую простран-ственную систему мира. С точки зрения Про-метея, Зевс не имеет другой цели, как помучить сначала бедную девушку, чтобы потом с ней совокупиться. В этом отношении его с полным правом можно считать изобретателем психо-анализа.
По поводу своего освобождения Прометей сообщает по крайне мере четыре версии, сви-детельствующие, что и на этот счет он не имеет твердого знания, заменяя его импровизациями по случаю.
В первой версии он говорит о новом за-мысле судьбы, за раскрытие которого Зевс освободит его от оков (170–179).
Во второй — что он будет освобожден, когда Зевс успокоит свою ярость (378).
В третьей — что судьба освободит его (511–514).
По четвертой версии Зевс будет свергнут своим сыном (768), но конкретно освободите-лем Прометея будет один из потомков Ио (772, 871–873)9, из чего можно заключить, что осво-бождение Прометея имеет своим условием свержение Зевса, но само по себе оно не явля-ется достаточным, и поэтому из потомства Ио должен произойти другой сын, который его освободит. Показательно, что все эти сыновья происходят от Зевса, т. е. единый сын как бы раздваивается: один свергает Зевса, а другой освобождает Прометея. По Гесиоду, Прометея избавил от мучений Геракл, сын Зевса, и не без
ведома отца, т. е. по воле Зевса (Th. 526–531). Что же касается другого сына, который должен был родиться от Метиды, то вместо него роди-лась Афина (Th. 886–900), т. е. дочь, хотя и рав-ную имеющая отцу силу и разумную волю (896), но все же занимающая более низкое положение по сравнению с мужским божеством.
Сверх расходящихся между собой версий Прометея имеется уже не одна из версий, но конкретное указание на ход событий, которое сообщает Прометею Гермес (1016–1029). В от-личие от импровизаций Прометея, относящих-ся к неопределенному будущему, предупре-ждение Гермеса реализуется сразу же после того, как оно произносится, опровергая эмпи-рически метафизические фантазии обнаглев-шего демона. Проваливаясь под землю, Про-метей свидетельствует своей судьбой, что есть только одна судьба — та, которую устанавлива-ет Верховный бог, т. е. судьбы как слепой и без-личной силы не существует, есть только сво-бодная воля, которая переламывает любые хитрости; а хитрец оказывается навечно свя-занным своими собственными обманами, т. е. судьбой, которую он придумал для других.
Секрет, или Сила судьбыВпервые тема знания судьбы появляется
в монологе оставшегося в одиночестве Про-метея:
Все знаю точно наперед, что предстоит, никакая непредвиденная мнойбеда не придет. Судьбу назначеннуюдóлжно нести как можно легче, зная, чтосила необходимости неодолима (101–105).
Но идею знания судьбы как инструмента, c помощью которого он сможет себя освободить и даже возвыситься над Зевсом, ему подают Океаниды:
Кто не возмущается твоими бедами,разве кроме Зевса? Он, всегда гневный,расположив ум непреклонно,укрощает Урана род; и не прекратит <гнева>,прежде чем не насытит сердце <свое> или не отниметкто-либо у него хитростью господство неприступное.

Театр и драматургия
47
ПрометейПоистине еще во мне, хотя в крепкихоковах притесняемом,нужду иметь будет повелитель блаженных,чтобы узнать новый замысел <судьбы>, ктоскипетром и почестями завладеет.И никакими сладкоречивыми словамиубеждения не зачарует <он> меня, и даже свирепымиугрозами устрашаемый, никогда я это не открою,прежде чем от жестоких оков не освободит <меня>и выкуп заплатитьза это насилие не пожелает (162–179).
Окончательная формулировка секрета, или тайного знания судьбы, также принадлежит Океанидам:
Ныне же помогай не смертным сверх должной меры,а себя самого не оставляй в несчастье. Ибо ядобрую надежду имею, что ты, от этих оковосвобожденный, будешь нисколько не меньше Зевса.
ПрометейНе так Мойра, осуществляющая предназначения,должна это исполнить; бесчисленными страданиямии бедствиями согбенный, так избегу оков:искусство много слабее необходимости.
ХорКто же необходимостям есть кормчий?
ПрометейТройственные Мойры и всепомнящие Эринии.
ХорРазве Зевс слабее этих?
ПрометейОднако не избежит он того, что суждено.
ХорЧто же суждено Зевсу, как не властвовать вечно?
ПрометейБольше не расспрашивай, не настаивай.
ХорПоистине, нечто священное (τι σεμνόν) есть то, что скрываешь.
ПрометейДругое слово поминайте, это жегромко произносить никак не время, но скрытоедолжно пребывать сколько возможно: его храня,оков недостойных и бедствий избегу (507–525).
Сколько бы Прометей ни рассуждал о не-обходимости (сила необходимости неодолима; искусство много слабее необходимости), его глубочайшим убеждением остается, что только τέχνη (искусство, хитрость) является всесиль-ной, даже если в каких-то частностях он ошиб-ся, и поэтому в совершенно безнадежном по-ложении он продолжает хитрить, изобретая новый обман, который представляет в форме силы необходимости, стоящей даже над тираном богов Зевсом. И тем не менее, несмотря на сверхличный характер, эта необходимость имеет вполне определенное «лицо». С одной стороны никакая τέχνη не способна пересилить необходимости, с другой — она может быть преодолена с помощью все той же самой τέχνη, т. е. отношение между τέχνη и необходимостью переворачивается: необходимость становится следствием τέχνη, ее созданием, которую она конструирует по установленным ею же самой правилам. Здесь обозначается фундаменталь-ное различие между έπιστήμη (достоверное знание), основанным на знании объективных законов, и τέχνη (умение), которое покоится на έμπειρία (опыт, основанное на опыте знание). В своей практической деятельности создателя обманов и иллюзий Прометей снимает это раз-деление, превращая έπιστήμη в τέχνη, а τέχνη — в έπιστήμη. В какой мере это ему удается — об этом великая трагедия Эсхила.
Всем присутствующим и отсутствующим — Зевсу в первую очередь — Прометей желает доказать, что управлять судьбой-необходи-мостью может только тот, кто знает ее законы. В этих своих софистических рассуждениях Прометей устанавливает основные принципы

Театрон [1•2012]
48
нового «диалектического мышления»: с одной стороны, существует «объективная необходи-мость», а с другой стороны, имеется возмож-ность изменить направление «исторического процесса» (в данном случае «мифологическо-го» — трагедия Эсхила точно фиксирует мо-мент, когда миф входит в историю, сам стано-вится историей), но на определенных условиях, которые известны только знающему законы этой «необходимости». В конкретном виде это свое знание грядущих судеб Прометей разво-рачивает перед доброжелательным Океаном (уверенный, что его речи будут услышаны Зевсом), пророчествуя о грядущей всемирной катастрофе:
Землерожденного обитателя киликийскихпещер я пожалел, увидев губительное чудовищестоглавое, силой одоленное,Тифона неистового; против всех богов восстал он,страшными челюстями свист издавал, ужас наводящий.В глазах грозных пламя сверкало,Зевса тиранию ниспровергнуть желая силой;но поразила его Зевса неусыпная стрела,стремительная молния, извергающая пламя,прекратив высокомерную егопохвальбу. В самое сердце пораженный,сгорел дотла и силы лишился.И ныне бесполезное и распростертое телолежит вблизи узкого морского прохода,сдавленное под основаниями Этны;а на высоких вершинах восседая, кует железоГефест; отсюда вырвутся когда-нибудьреки огня, уничтожая дикими челюстямировные пашни плодоносной Сицилии;вот такую ярость заставит вскипеть Тифонпалящими стрелами страшной огнедышащей бури,хотя молнией Зевса обугленный.Ты же, не несведущий, в моем наставничествене нуждаешься, себя спасай как можешь;я же стерплю нынешнюю свою беду,пока Зевса разум не успокоит своей ярости (353–378).
В этой речи, обращенной к Океану, о лю-дях Прометей даже не упоминает, а говорит только о своем брате Атланте и Тифоне, кото-рый, хотя и мертвый, восстанет однажды (вре-мя не уточняется) и зальет потоками огня землю Сицилии — образ устроенного богами мира. Завороженный собственными видения-ми, Прометей проговаривается о своих истин-ных целях, к филантропии не имеющих ника-кого отношения. Ведь эсхатологический огонь должен уничтожить не какую-то абстрактную тиранию, а очень реальные пашни плодоносной Сицилии, т. е. организованный человеческий мир, и превратить ее в пустыню, населенную одними чудовищами. Заключение напрашива-ется само собой — и трагедия Эсхила не остав-ляет в этом отношении никакого сомнения: огонь, похищенный Прометеем, был вовсе не культурным огнем, который должен был нау-чить обездоленных Зевсом людей всем искус-ствам и умениям, а страшным хтоническим пламенем, которое хранила Этна и стражем которого был бог-кузнец Гефест. Это делает вполне понятным, почему именно Гефест по-является в первой сцене10. В видении Прометея на вершине Этны, которая должна будет когда-то извергнуть из себя потоки огня, восседает кующий железо Гефест, словно возвещая уда-рами своего молота конец мира. Культурный огонь трансформируется в эсхатологическое пламя, а бог-кузнец — в чудовище, которое от-крывает источники всепожирающего огня11.
Эта безумная речь — а именно таким об-разом расценивает ее Океан — переходит в ис-терический совет Океану спасаться. Спасаться от кого и от чего? От огня, который зальет не только землю, а также небо? В таком случае этот совет должен относиться ко всем богам, в том числе и к Прометею, который вместе с богами, старыми и новыми, исчез бы бесслед-но в огненном хаосе. Но Прометей имеет явно другую мысль, которую он облекает в устра-шающую форму эсхатологического предсказа-ния: если Зевс не прекратит гневаться и не освободит его, из пепла восстанет огненный Тифон и сожжет всю землю. Эта уловка не срабатывает ввиду ее полной абсурдности. А посему Океану, космологическому богу par excellence, замыкающему в себе организованный мир12, не остается ничего другого, как прекра-тить свои разумные, основанные на всей сово-купности греческих представлений о космиче-

Театр и драматургия
49
ском порядке советы, усесться на крылатых грифонов и отправиться восвояси.
Слова Океана, по видимости, должны были бы заставить задуматься Прометея. И дей-ствительно, он погружается в молчание, как бы отсутствуя, но мысль его не меняет своего на-правления: он жалуется на богов, которые обязаны ему всеми своими дарами и почестями, а затем произносит знаменитый монолог о своих благодеяниях людям, за которые он так жесто-ко и несправедливо страдает:
вот такие средства изобретядля смертных, сам я не имею средства, которымот нынешней беды мог бы себя избавить (469–471).
На это жалостливое самовосхваление Океаниды реагируют так же, как и Океан на визионерские речи о Тифоне:
ты страдаешь недостойной бедой: лишившись ума,блуждаешь, словно плохой врач, впавший в какую-тоболезнь, падаешь духом и не можешьнайти лекарства, которое тебя исцелило бы (472–475).
И действительно, Прометей признает, что для себя самого он не знает средства, которое спасло бы его от беды, ставя под сомнения средства, которые он доставил людям, а также все свое знание будущего, настоящего и про-шлого, которым он только что хвастался перед Океаном, сообщая ему о грядущих катастрофах. Однако Прометей не унимается, продолжая эпический рассказ о своих деяниях на благо человечества, которые принесли ему незаслу-женную славу «культурного героя»:
остальное про меня услышав, удивишься больше,какие искусства и средства я придумал (476–477).
Сострадательные Океаниды советуют со-всем завравшемуся Прометею:
Ныне же помогай не смертным сверх должной меры,
а себя самого не оставляй в несчастье (507–508).
Прометей заговаривает о Судьбе-Мойре, наводя Океанид на мысль, что ему известно нечто, что касается судьбы Зевса, изобретая, забыв о своем недавнем отчаянии, великий «секрет», в обмен на который пытается вытор-говать свое освобождение. Следует признать: изобретя «секрет», Прометей сделал гениаль-ное открытие, за которое его особенно ценили и восхваляли много больше, чем за сомнитель-ные с исторической и даже мифологической точки зрения благодеяния, оказанные челове-честву, революционные идеологи нового вре-мени, превратив вульгарного, хотя и красноре-чивого демагога в борца-героя против социальной несправедливости и защитника невинных дев.
Однако, как и все другие изобретения Прометея, «секрет» оказался не только беспо-лезным, но даже опасным для своего создателя. И в самом деле, дожидаться катастрофы риско-ванно, освободить бунтовщика еще более ри-скованно: оказавшись на свободе, он будет утверждать, что если бы он оставался в заклю-чении, то мир погиб бы, т. е. своим спасением он обязан исключительно ему, что подорвало бы доверие к верховной власти. А потеря до-верия, как известно, — первый шаг к гибели. Таким образом, «спаситель» оказывается глав-ным разрушителем существующей системы, что делает Прометея много опасней Тифона, кото-рый умеет грызть, но не рассуждать. И действи-тельно, восстание из пепла Тифона проблема-тично, в то время как освобождение Прометея имело бы немедленные катастрофические эффекты, в первую очередь для мира богов. А посему, какие бы опасности и катастрофы ни придумывал Прометей, все они перекрываются опасностью, которую представляет он сам в ка-честве дестабилизирующего космосистему фактора.
Свой «секрет» Прометей представляет как знание объективных законов Судьбы-необходимости, но конструирует он свое знание по хорошо известному мифологическому об-разцу проклятия отцом своих сыновей: Зевс, хотя самоуверенный душой, / покорным будет, ибо готовится / в брак вступить, который его с господства / и трона, не ведающего, свергнет: отца проклятие, / Крона, тогда уже полностью

Театрон [1•2012]
50
исполнится, / которое он, свергнутый с древне-го трона, призвал (907–912), утверждая при этом, что он знает средства, как избежать этой судьбы. Здесь Прометей снова впадает в про-тиворечие: если проклятие имеет объективную силу необходимости, то как можно от него спастись? Он явно хочет перехитрить судьбу — свою в первую очередь, — которая, по его соб-ственным словам, есть τελεσφόρος (осущест-вляющая предначертания), т. е. идущая до на-значенного конца, никогда не меняющая от века заданного направления. А посему более чем сомнительно звучит ответ Прометея на вопрос девушки-коровы Ио о судьбе Зевса: Нет у него избавления от этой судьбы? Прометей: Нет, нисколько, разве что от оков буду я освобожден (769–770).
Получается, что изменение судьбы Вер-ховного бога зависит от освобождения Про-метея, т. е., по сути дела, он ставит себя на место судьбы, разрушая таким образом самое понятие судьбы как абсолютно безличной и неподвласт-ной даже богам силы. И в самом деле, если судь-бу можно изменить даже в одном-единственном случае (а в данном случае изменение судьбы означает изменение принципа, который управ-ляет миром) — то нет никакой судьбы, по крайней мере в том безличном виде, в каком ее представляет Прометей. Думая расставить ловушку судьбы Зевсу, он сам в нее попадает, запутавшись навсегда и безнадежно в собствен-ных обманах, которые тем не менее ничему не научили ни его самого, ни его бесчисленных последователей.
Философия обманаНа чем основывается убеждение в эффек-
тивности обмана, хотя в своем практическом приложении обман оказывается катастрофиче-ским в первую очередь для самого обманщика? Обращаясь к мифологии, можно было бы ска-зать, что в начале был обман, который есть следствие мировой иллюзии, майи. Если до-вести эту мысль до конца, то и сам обман ока-зывается обманным, т. е. ловушкой для обман-щика. С временнóй точки зрения Прометей занимает первое место в ряду великих обман-щиков, но мифологическое время не есть ли-нейное и необратимое, а посему Сисиф и Тан-тал вполне могли быть образцом для Прометея, как и Прометей — для Сисифа и Тантала. Все они глубоко убеждены, что наиболее эффек-
тивный способ для достижения любой цели — физической и метафизической — есть обман. В этом отношении образцовой является дея-тельность Сисифа, который обманывает демо-на смерти Танатоса, богов преисподней, но в ко-нечном счете обретает не бессмертие, а вечные мучения.
Заключение об эффективности обмана как универсального средства Прометей вполне мог сделать из собственного опыта. В знаменитом монологе (436–506) он не столько хвалится своими благодеяниями — реальными или во-ображаемыми, неважно, — сколько поет гимн обману. Здесь он выступает как создатель ре-волюционной философии обмана. Похищен-ный огонь определяется как учитель всех умений (109–110), т. е. все искусства — след-ствие обмана-похищения, а обманщик-похититель — всеобщий благодетель: все ис-кусства у смертных от Прометея (506).
В монологе Прометея перечисляются ис-ключительно выгоды обманом добытого огня, но ничего не говорится о его отрицательных следствиях. И действительно, выгоды являют-ся сразу, а побочные эффекты — со временем. Но если выгоды и следствия разделены более или менее длительным временем, то с достаточ-ным основанием можно утверждать (вставая на мифологическую точку зрения), что вместе с огнем в изначальный мир входит историче-ское время. В этом смысле Прометея вполне можно считать мифическим создателем чело-вечества — исторического, обреченного на смерть13. Божественная субстанция, какой яв-ляется огонь, попадая в сферу низших существ, ускоряет энтропическую тенденцию, которая в изначальном до-огненном мире была неощу-тимой. В этом энтропическом смысле интер-претирует похищение огня Гораций, для кото-рого следствия вполне проявились и намного перекрыли выгоды:
Дерзко рвется изведать все Род людской и грешит, став на запретный путь:Сын Иапета дерзостный Злой обман совершив, людям огонь принес;После кражи огня с небес, Вслед чахотка и с ней новых болезней полкВдруг на землю напал, и вот

Театр и драматургия
51
Смерти день роковой, прежде медлительный,Стал с тех пор ускорять свой шаг (Оды I, 3, 25–23; пер. Н. С. Гинцбурга)14.
Огонь активизирует опасные элементы, пребывавшие в состоянии потенциальности, и поэтому следствия являются не сразу, но раз-ворачиваются во времени, которое становится временем истории, временем, направленным к концу, но не в смысле обновления и возрож-дения, а в смысле истощения и исчезновения. Это нарастание чистой отрицательности в свя-зи с похищением огня очень наглядно и драма-тично представлено в сказании о человеческих родах Гесиода: останутся тяжкие боли / смертным людям: от зла не будет защиты (Ор. 200–201).
Сказание о человеческих родах следует за историей похищения огня и создания искус-ственной девы Пандоры, но внутренне с ними связано, хотя представляется как другая сказка. Важно отметить, что похищение огня имеет место, когда людей еще нет и они только долж-ны быть (Ор. 54–58). Беды, которые выпустила женщина, открыв пифос (Ор. 94–95), собствен-но, суть дальние эффекты похищенного огня.
Плач Океанид, или Конец мифической эпохиДействие трагедии Эсхила разворачива-
ется в двух планах — мифическом и историче-ском. Первый представляется хором Океанид, а второй — Прометеем. Речи Океанид — это плач по ушедшему навсегда мифическому миру. Океаниды оплакивают злую судьбу (399) Прометея, потому что он был частью этого мира, из которого безвозвратно вышел. Муче-ния Прометея — мучения всех богов, о чем свидетельствуют слова Гефеста: родство, несо-мненно, ужасно, как и близость (τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἥ θ᾽ ὁμιλία. 39). Почему родство пережи-вается богом огня как δεινὸν (страшное, вызы-вающее благоговейный ужас)? Все боги вышли из единой хтонической основы. Отрыв от этой основы составлял цель космо-теогони ческого процесса, в результате которого смертные (в силу своей хтоничности) демоны превращаются в бессмертных богов. А посему ужасное здесь должно относиться к этой общей для всех богов и демонов основе, о которой похищение огня болезненно напомнило всем богам.
С наибольшей интенсивностью события переживаются Океанидами, оплакивающими безвозвратно потерянное единство изначаль-ного мира. Плач всей земли, о котором возве-щают Океаниды (407–435), — это жалоба мира, в котором обнаружилась рана-бездна, доходя-щая до самых глубин Аида. Распространение плача земли до ее самых крайних пределов указывает на радикальную трансформацию изначального мира, в результате которой про-исходит разграничение и противопоставление мировых сфер — нижней и верхней, — где ниж-няя, или хтоническая, сфера — тесная, несмо-тря на свою кажущуюся беспредельность. И по-этому оказавшиеся на хтонической окраине существа стонут, оплакивая свое навсегда по-терянное пребывание в теплой хтонической утробе, которая защищала их от опасностей существования во внешнем пространстве. Те-перь они сделались уязвимыми и поэтому страдающими.
Подлинным трагическим персонажем здесь является вовсе не Прометей, который вызывает по меньшей мере отвращение своими шутовскими кривляниями, а хор Океанид, го-лосом которых говорит уходящий навсегда мир, ранее единый и тихий, а теперь разделившийся, ставший разорванным и враждебным самому себе. И поэтому они остаются около Прометея, с негодованием отвергая совет Гермеса удалить-ся, чтобы не стать свидетельницами ужасного зрелища. Отказываются они последовать этому совету вовсе не потому, что убеждены в право-те Прометея. Океаниды признают правоту Гермеса (1036–1039). Они надеются на при-мирение, на успокоение страстей, которые Прометей возбудил своими обманами, но но-вый дерзкий вызов Прометея убеждает их окончательно, что возврат к прежнему согла-сию не возможен ни с какой стороны, а значит, для них уже нет больше никакого места на этой земле и в этом мире.
Две историиС точки зрения мифического безвременья
Прометей вовсе не преувеличивает, рассказы-вая о своих благодеяниях. Он зачарован бли-жайшими результатами, не замечая дальних эффектов, которые разворачиваются в истори-ческом времени и которые вышли из обмана, что породил это самое время, разорвавшее круговую мифическую замкнутость-вечность

Театрон [1•2012]
52
и устремившееся в неведомую даже богам бес-конечность. А посему то, что было верным для мифического безвременья, становится ложным в историческом времени. Это смешение исто-рического с мифическим характеризует все идеологии, реакционные и революционные. Все они имеют одну цель: запереть историческое время, всегда движущееся и никогда не оста-навливающееся, в бездвижном мифическом безвременье. С этой точки зрения Прометей стоит у начала исторического времени, что во-все не означает, что он освободил человечество от рабства у мифа, который сковывал мировое существование, не позволяя ему развернуться. То, что история пошла по пути Прометея, вовсе не означает отсутствия других путей.
Определения νέος (новый, молодой) в речах Прометея имеет в качестве своего основного назначения перевод комогонического мифа в сферу «новой» политической истории. В ар-хаических традициях различались два типа историй — истинные и ложные. Истинные истории — это мифы, рассказывающие «не только о происхождении Мира, животных, рас-тений и человека, а также обо всех первоначаль-ных событиях, в результате которых человек сделался тем, что он есть ныне, т. е. смертным существом, разделенным на женское и мужское, организованным в общество, принужденным работать, чтобы существовать, и работать со-гласно определенным правилам»15. Главное отличие ложных историй от истинных состоит в том, что они рассказывают о событиях, кото-рые «не изменили человеческого состояния как такового»16.
Определению «истинной истории» соот-ветствует «Теогония» Гесиода, в которой гово-рится о происхождении богов, космических объектов, настоящего человеческого состояния в результате похищения огня.
Версия событий, которую рассказывает Прометей, принадлежит к типу «ложных исто-рий», поскольку в ней полностью отсутствует объективное космогоническое содержание. Она вся сводится к политической истории «борьбы за власть». Демоны, охваченные яростью, всту-пают в борьбу между собой, однако не разъяс-няются причины этой ярости. Одни принимают сторону Крона, а другие — сторону Зевса. Есть третья «партия», которая имеет чисто отрица-тельную цель: чтобы Зевс никогда богами не правил (205). Выделяется четвертая группа —
Титанов, которые, лукавые ухищрения / пре-зирая, могучей волей / и силой думали без труда господствовать (208–210). Прометей вначале принимает сторону Титанов, а потом, разоча-рованный тем, что они отказываются принять его хитрости, переходит на сторону Зевса, при-писывая исключительно своим советам его победу: благодаря моим советам Тартара тем-ная / глубина скрывает древнерожденного Крона / с его союзниками (221–223).
Если раньше история, рассказываемая Прометеем, имела какое-то правдоподобие, то в этом пункте она решительно запутывается: оказывается, что борьба происходила не между различными группами демонов, а между Зевсом и Кроном, союзниками которого были Титаны. Но только что мы слышали, что Титаны, без всякого отношения к Крону, сами желали δεσπόσειν (210: господствовать), из чего можно заключить, что они в равной мере противо-стояли как Зевсу, так и Крону. Из современной политической истории мы знаем, что после победы какой-то одной политической группи-ровки все прочие, сколь бы многочисленными они ни были, объединяются в единую группу «врагов». В этом отношении Прометея следует признать также создателем современной «по-литической истории».
Было бы неверно утверждать, что Про-метей полностью лжет. Через его ложь про-глядывает против его воли истинная история, и эта история была борьбой космогонических богов против деструктивных хаотических сти-хий, персонифицируемых Титанами, которые в версии Прометея, как и в рассказе Гесиода, в равной мере противостоят старым богам и новым. В «политической истории», которую импровизирует Прометей перед Океанидами, все отношения переворачиваются: превозно-сится хтоническая вольница, а героями стано-вятся чудовища, вроде Тифона, сеющего террор по всей земле. Выведя историю из мифическо-го безвременья, Прометей направил ее в сторо-ну первобытного хаоса, бездны, где исчезает всякая история — не только богов и людей, но и самого Прометея.
В этом состоит значительность мифа Про-метея, никогда не теряющего своей актуаль-ности, хотя и вышедшего из темных глубин архаического сознания. В нем концентрируют-ся фундаментальные вопросы человеческого бытия во всех его аспектах — исторических

Театр и драматургия
и экзистенциальных: слепая судьба-необхо-ди мость сильнее разумной воли — бога или человека? И были ли другие пути, не Проме-
теевы, которые вывели бы людей из их на-чальной мифической замкнутости и неподвиж-ности?
1 Эсхилл. Трагедии. М., 1989. С. 250.
2 Махабхарата. Кн. 1. Адипарва / Пер. В. И. Кальянова. М., 1992. С. 62.
3 Caiazza A. Il Mito di Prometeo in Eschilo // Eschilo. Prometeo inca-tenato. Milano, 1988. P. 16.
4 См.: Евзлин М. Боги и Титаны в Теогонии Гесиода // Studia mytho-logica Slavica XII. Ljubljana, 2009.
5 Aeschylus with an English trans-lation by Herbert Weir Smyth. II. London, 1973. P. 245.
6 Ср. миф о происхождении лю-дей из копоти дыма от сожженных молнией Зевса титанов (Olimpiod. In Phaed. 61c).
7 Здесь и далее поэмы Гесиода цитируются в переводе автора статьи.
8 Цит. по: Аполлодор. Мифоло-гическая библиотека. Л., 1972. С. 34–35.
9 Ср. слова Гефеста: ибо не ро-дился еще избавитель (27), т. е. как должно произойти освобожде-ние Прометея, установлено Зев-сом и всем известно до того, как Прометей начинает пророчество-вать о себе и других.
Примечания
10 У Гесиода Прометея прико-вывает сам Зевс (Th. 521–522). Гефест только лепит по приказу Зевса деву в качестве наказания людям за похищение огня (Th. 570–584), но ни слова не говорится о намерении Зевса уничтожить человеческий род как таковой. Более того, именно с этого момен-та начинается история человече-ского рода stricto sensu, поскольку вылепленная Гефестом дева была первой женщиной, а до ее появле-ния, как следует со всей очевидно-стью из греческого текста, суще-ства, для которых Прометей по-хитил огонь, не имели в себе раз-деления на мужское и женское, т. е. не были людьми. Это разделе-ние появляется в них только после прихода искусственной девы.
11 Ср. Гефеста-Тифона со стра-жем огненной страны Муспель Суртом в скандинавской мифоло-гии: «в руке у него пылающий меч, и когда настанет конец мира, он пойдет войною на богов и всех их победит и сожжет в пламени весь мир» (Младшая Эдда. Л., 1970. С. 15–16).
12 Ср. описание движения Океа-на у Гесиода: далеко под землей широкодорожной / из священной реки течет через черную ночь / Океана рукав; десятая часть на него приходится; / девять же ча-стей вокруг земли и широкого хребта моря, / в водоворотах сре-бряных кружа, в море впадают (Th. 787–791).
13 О катастрофических след-ствиях культуртрегерской дея-тельности см.: Михайлов Н. О не-которых аспектах «филантропиче-ской» культуртрегерской деятель-ности Прометея // Знаки Балкан. Ч. 1. М., 1994: Он же. Локи и Про-метей: К типологии протоперсона-жа // Там же. В этих двух статьях впервые предпринимается серьез-ная попытка пересмотра мифа Прометея на основе греческих первоисточников мифа, а не позд-них идеологических напластова-ний.
14 Гораций. Оды // Собр. соч. СПб., 1993. С. 30.
15 Eliade M. Mito e realtà. Torino, 1966. P. 33.
16 Ibidem.

54
II«Кукольный дом» стал единственной
пьесой Ибсена, впервые показанной на сцене копенгагенского Королевского театра. К концу 1870-х годов репутация норвежского драматур-га в Дании была уже настолько высока, что только по отношению к нему дирекция королев-ской сцены решилась нарушить установленное ею твердое правило, исключавшее постановку любой новой и пока нигде не поставленной пьесы, если последняя уже появилась или должна была появиться в печати до премьеры. Для Ибсена публикация каждой его драмы до первого ее представления была принципиаль-ной. «Я считаю вредным для драматического произведения предстать пред публикой впер-вые в сценической передаче, — писал он 5 ок-тября 1877 года в письме к Эдварду Фаллесену в связи с требованием дирекции Королевского театра отсрочить выход в свет книжного изда-ния „Столпов общества“. — Я думаю, что правила, каких придерживается в данном от-ношении Королевский театр, значительно за-держали развитие драматического творчества в Дании. Во всяком случае — факт, что творче-ство это со времени установления такого по-рядка не проявляет никаких признаков про-цветания. И это легко объяснить. При таком порядке новая пьеса никогда не может быть схвачена и обсуждена по существу, сама по себе, как литературное произведение. Суждение всегда будет двоиться между пьесой и выпав-шим ей на долю исполнением; эти две совер-шенно различные вещи смешиваются, и глав-ный интерес публики обыкновенно больше сосредоточивается на игре, исполнении, на артистах, чем на самой пьесе»1.
После «Улофа Лильекранса» (1857), ко-торый стал последней его пьесой, написанной по велению службы для бергенского Норвеж-ского театра (где он занимал должности драма-
турга и второго режиссера), Ибсен не создал ни одного произведения с расчетом на какую-либо конкретную труппу. По свидетельствам совре-менников, Ибсен всегда раздраженно протесто-вал, если кто-либо в его присутствии называл его персонажей «ролями»2. Видя в них живых людей, иногда чуть ли не своих близких зна-комцев, драматург прекрасно понимал, что нет никакой возможности воссоздать их на реаль-ной сцене со всеми присущими им мельчайши-ми чертами. Главным образом этим объясня-лось то обстоятельство, что он крайне редко и весьма неохотно посещал представления своих драм и никогда не вмешивался в репети-ционный процесс. «Ибсен ведь тысячу раз видел пьесу в своем воображении, — писал близко общавшийся с драматургом датский пи-сатель Йун Паульсен, — знал каждое лицо с го-ловы до пят, и наружность его, и платье, и осанку, и жесты, и привычки, и слабости3. Он знал, например — высокого или маленького роста Нора, блондинка она или брюнетка, какая у нее походка — быстрая или медленная; он изучил каждую малейшую особенность ее существа, подметил, например, что она нервно, почти сладострастно поводит плечами, когда кушает запретные миндальные печенья4. А на самом спектакле разработанной воображением Ибсе-на в мельчайших подробностях картине при-ходится вступать в борьбу со сценической действительностью. И ему тяжело видеть, как сценическое изображение разрушает его меч-ты»5. Предпочитая называть свои драмы «кни-гами», Ибсен словно настаивал на их принад-лежности в первую очередь литературе, а не сцене. Взгляд же на его произведения всего лишь как на сценарии будущих спектаклей был для него категорически неприемлем. Однако их «литературность» не следует резко противо-поставлять той несомненной театральности, которую они в себе несут6. Не только в каждой из его «современных» пьес, но и в предшество-вавшей им грандиозной дилогии «Кесарь и Га-
А. А. Юрьев
Первый «Кукольный дом»*
* Продолжение. Начало см.: Театрон. 2011. № 2 (8). С. 26–34.

Театр и драматургия
55
лилеянин», создававшейся как «драма для чтения», зримо разворачивается театральное действо, уже поставленное автором на вооб-ражаемой сцене-коробке. Вводные ремарки, не просто указывающие место действия, но кон-струирующие сценическое пространство с кон-кретными декорациями, фиксирование мизан-сцен, костюмов и лиц персонажей, их жестов и интонаций (нередко с дополнительной по-мощью «подсказывающей» пунктуации) — все это не что иное, как многочисленные «манки», позволяющие внимательному читателю вооб-разить разыгрываемый на театральных под-мостках спектакль. Разумеется, «режиссура» драматурга не могла получить полного отраже-ния в текстах ибсеновских пьес и заполнить собой без остатка простор читательской фан-тазии. Ставя вполне определенный «спектакль» в каждой новой своей драме, Ибсен несомнен-но отталкивался от собственного читательско-го опыта, вобравшего в себя хорошее знание сцены: «В театрах здесь я почти не бываю, — писал он из Мюнхена датскому драматургу Йенсу Кристиану Хострупу, — но охотно читаю по вечерам пьесы, и так как обладаю большой силой воображения в драматической области, то и представляю себе вполне живо все, что в пьесе действительно правдиво, правдоподоб-но и основательно; чтение производит почти то же впечатление, что и сценическое воспроиз-ведение»7.
Что же касается конкретных постановок его драм, то по отношению к ним Ибсен всегда руководствовался достаточно либеральным принципом: «Я пишу свои пьесы, как хочу, а затем предоставляю артистам играть их, как могут»8. Будучи нетерпимым к любым отсебя-тинам и, тем более, к радикальным переделкам написанного им текста, драматург не требовал от театров точного следования своим ремаркам и давал советы актерам и постановщикам в тех случаях, когда его о них просили (инициатива, исходившая от самого Ибсена, чаще всего огра-ничивалась распределением ролей). Выбор же театра, получавшего право на первую постанов-ку его новой пьесы, определялся неизменной процедурой: издатель, получивший рукопись, рассылал ее копии в указанные автором театры, и первенство выигрывала дирекция, предлагав-шая драматургу наиболее выгодные для него финансовые условия. Так было и с «Кукольным домом».
В подготовке спектакля копенгагенского Королевского театра Ибсен не принял никако-го участия (во всяком случае, не сохранилось никаких письменных свидетельств, позволяю-щих установить, был ли он причастен хотя бы к распределению ролей). Получив 8 ноября заключение цензора Кристиана Мольбека9, дирекция достигла договоренности с автором относительно денежного вознаграждения и дала распоряжение готовить премьеру. Работа над спектаклем началась в конце ноября.
На тот момент единственным режиссером Королевского театра был шестидесятивосьми-летний статский советник Ханс Петер Хольст. Еще в молодости обретя некоторую известность как поэт и новеллист из круга приверженцев Адама Эленшлегера, он неоднократно, но всег-да одинаково безуспешно пытался стяжать себе лавры драматурга. Интерес к сцене и связи с теа-тральными и правительственными авторитета-ми позволили ему в 1864 году стать режиссером Королевского театра, однако спустя три года он покинул этот пост, так как не выдержал конкуренции с Йуханной Луизой Хейберг — прославленной датской актрисой, навсегда оставившей выступления на сцене и занявшей-ся постановочной деятельностью10. Лишь после того как в 1874 году фру Хейберг полностью завершила свою театральную карьеру, Хольст занял должность «управляющего сценической деятельностью театра в целом»11. Снискав себе в глазах директора репутацию добросовестного и очень ревностно относящегося к делу поста-новщика, он не пользовался, однако, особым уважением артистов и потому как режиссер ограничивался лишь распределением ролей, компоновкой мизансцен, а также подбором декораций, костюмов и реквизита. Компетен-цию и круг полномочий Хольста характеризу-ет, к примеру, следующий факт: испытывая трудности с ролью Норы, Бетти Хеннингс об-ратилась за советом не к нему, а к своему преж-нему театральному наставнику, одному из крупнейших датских трагиков романтической эпохи, Фредерику Хёдту (впрочем, он также не оказал ей помощи и, прочитав пьесу, вернул ее своей бывшей ученице со словами: «Ничего не могу подсказать, решай сама»12).
Рецензируя спектакль Королевского теа-тра, Эдвард Брандес довольно низко оценил ре-жиссерскую работу Хольста, возложив на него ответственность за поверхностное, по мнению

Театрон [1•2012]
56
критика, понимание актерами большинства ролей. «Было бы весьма полезно для нашего сценического искусства, — писал Брандес, — если бы Хенрику Ибсену оплатили расходы на дорогу к нам, дабы он сам мог направлять ак-теров, руководить репетициями и ставить свою пьесу вместо того, чтобы довольствоваться очевидной бездарностью статского советника Хольста»13. Критик, конечно, не догадывался, что норвежский драматург вряд ли даже за до-полнительную плату принял бы предложение самостоятельно поставить пьесу, так как не был расположен к работе с актерами и обычно рас-точал им комплименты даже в тех случаях, когда внутренне оставался ими сильно недово-лен14. Однако, адресуя свои претензии главным образом Хольсту, Брандес оказался единствен-ным рецензентом спектакля, сумевшим уловить как новые для датской сцены требования, предъявлявшиеся ей драмой Ибсена, так и не-обходимость радикальных перемен, на пороге которых стоял весь европейский театр того времени. Движение к режиссуре как к все-охватному сценическому авторству совсем тогда не затрагивало консервативную Данию (кардинальные изменения начнутся лишь спу-стя более трех лет, когда новый режиссер ко-пенгагенского Королевского театра Вильям Блок поставит эстетически революционный для всей Скандинавии спектакль по пьесе Иб-сена «Враг народа»15). Функции режиссера оставались пока в пределах «внешней поста-новки» и распределения ролей, не обязывая его не только к созданию единой художествен-ной концепции спектакля, но даже к разбору действия в помощь актерам и выстраиванию слаженного исполнительского ансамбля. Поэ-тому можно предположить, что «внутреннее действие», замеченное Брандесом в драме Иб-сена, совсем не входило в кругозор Хольста-режиссера. Как бы то ни было, рассчитывать на осмысленное его воплощение артистами не приходилось. И все же, если оценивать работу Хольста в рамках привычных для Дании того времени театральных установлений, «очевид-ная бездарность» постановщика будет выгля-деть не столь очевидной.
Как свидетельствует ежедневный журнал Королевского театра, первая постановка «Ку-кольного дома» была подготовлена за одиннад-цать репетиций, что соответствовало принятой средней норме16. Рукописный план спектакля,
составленный Хольстом на девяти страницах, никаких указаний актерам не содержит. Нет в нем и наметок мизансцен. Он включает в себя чертеж и описание декорации (которая была в значительной мере заимствована из постанов-ки «Столпов общества», сохранявшейся в ре-пертуаре), указания осветителю, а также пере-чень реквизита и закулисных шумов. Записи Хольста (вместе с фотографией, запечатлевшей момент финальной сцены второго акта17) сви-детельствуют, что постановщик скрупулезно следовал ремаркам драматурга, описывающим гостиную в квартире Хельмера и фиксирую-щим перемены в ней во втором и третьем дей-ствиях18. Вместе с тем Хольст не ограничился соблюдением авторских указаний, явно стара-ясь создать актерам максимально «обжитое» пространство и даже наглядно представить эстетические вкусы главы семьи. Когда отво-рялась дверь в кабинет Хельмера, публика видела часть его обстановки: кресла, книжный шкаф, письменный стол с бумагами, газетами, книгами, двумя подсвечниками, письменными принадлежностями и пресс-папье, а также ви-севшие над столом картины и фотопортрет. Гостиная, стены которой имели лепные карни-зы, подчеркивавшие «объемность» декорации, была украшена цветущими растениями и буке-тами, кресла обиты материей с изображением цветов, на пианино с консольными свечными лампами лежала стопка нот, позади довольно высокой изразцовой печки находилась едва заметная зрителям поленница, а на самой печ-ке был установлен бюст Людвига Хольберга, смотревшего вниз с иронической улыбкой. Это символичное «присутствие» на сцене крупней-шего датского комедиографа не ускользнуло от внимания одного из рецензентов, усмотревше-го тут нечто большее, чем проявление художе-ственных пристрастий мужа Норы. Отметив, что пьесу Ибсена нельзя отнести к трагическо-му жанру (не только из-за того, что в ней дей-ствуют обычные люди, но и потому, что ей чужды «возвышающая скорбь и облагоражи-вающая боль» подлинной трагедии), он срав-нивал «Кукольный дом» с драмами Иффланда и с легким сарказмом заключал: «Комедия, которой нашлось бы место даже в пьесе такого рода и которая доставила бы нам облегчение, была представлена лишь бюстом Хольберга на печке, откуда он со странно печальной улыбкой взирал на все эти бюргерские мытарства, еще раз

Театр и драматургия
57
наслаждаясь своей притягательностью на сцене, где он вопреки всему скоро снова явится как триумфатор19» («Dags-Telegrafen», 23 декабря)20.
Среди убранства, которым Хольст допол-нил предложенную драматургом картину, за-метно выделялась репродукция «Сикстинской Мадонны» Рафаэля, висевшая над пианино на задней стене по центру. А на предусмотренном драматургом шкафчике с книгами в роскошных переплетах (который Хольст разместил в углу между левой и задней стенами) стояло гипсовое изваяние Венеры. Такое сочетание образов, отсылающих к контрастным и всегда противо-стоявшим в прежних драмах Ибсена мирам — христианскому и языческому, тоже могло восприниматься как выражение не только эстетических вкусов Хельмера. Если допустить, что постановщик был знаком с дилогией Ибсе-на «Кесарь и Галилеянин» (1873), имевшей при своем появлении сенсационный успех и вос-принимавшейся не только самим автором, но и его многочисленными читателями как глав-ное его создание, то предположение, что Хольст предъявлял театральной публике многознач-ную визуальную реминисценцию, не покажет-ся таким уж странным21. В мечте Юлиана о гря-дущем «третьем царстве», где гармонично сольются воедино язычество и христианство, многие тогда усматривали суть «положитель-ного мировоззрения» драматурга. Но если чи-тать Ибсена более внимательно, то станет ясно, что он с большим недоверием относился к этой прельщавшей его утопии, которая когда-то вдохновляла творцов романтической «новой мифологии». Допуская, что режиссер вполне осознавал двусмысленность придуманной им визуальной «отсылки», не станем (ибо это за-ведет нас слишком далеко) сближать Ибсена с Хольбергом, чью улыбку публика вполне могла истолковывать как насмешку века Про-свещения и над «бюргерскими мытарствами», и над фантазиями романтиков. Но все равно — почему бы не усмотреть здесь иронии преста-релого и умудренного жизнью романтика Хольста над эклектичным эстетизмом Хельме-ра, унаследовавшим «родовые пятна» роман-тической футурологии (а если и над Ибсеном, то очень поверхностно усвоенным)? Если учи-тывать, что на протяжении всего спектакля Нора являла собой предельную противополож-ность обоим женским идеалам — и скульптур-но воплощенной в Венере чувственности, и ре-
лигиозно одухотворенному материнскому началу, — то не было ли тут намека режиссера на полную несостоятельность обоих супругов со всеми их эстетическими идеалами и иллю-зиями? В финальной же сцене (когда подмост-ки слабо освещались только свечами в прихо-жей и лампой на круглом столе, передвинутом, согласно воле драматурга, слева на середину комнаты) интерьер уютной гостиной утопал в сумерках — но «Мадонна», возвышаясь над грешной супружеской парой, превращалась в подчеркнуто зримый фокус сценической композиции22. Таился ли тут режиссерский укор героине, оставлявшей своих детей ради «обязанностей перед самой собою»23, — публи-ка была вправе решать самостоятельно.
Освещение имело в спектакле особую вы-разительность, что было отмечено несколькими рецензентами. Один из них усмотрел «безуко-ризненное искусство» постановщика в том, как «тени одна за другой накрывают эту поначалу светлую и безмятежную картину, ширясь все больше и больше и, наконец, погружая все во тьму — так же незаметно, как в самой природе, когда день преображается в ночь» («Dags-Telegrafen», 23 декабря)24. Руководствуясь ре-марками автора, Хольст чисто визуальными средствами пытался передать изменение «ат-мосферы», «настроения» в доме Хельмера: предпраздничная обстановка первого акта, под-черкнутая ярким освещением сцены, сменялась угрюмым видом, который придавали гостиной во втором действии стоявшая в углу обобран-ная, обтрепанная, с обгоревшими свечами елка и свисавшая с потолка по центру погашенная люстра; сумерки третьего акта довершали все зримые перемены, постепенно омрачавшие эмоциональный настрой публики, а бодрые голоса, смех и музыка, что слабо доносились из квартиры Стенборгов перед финальной сценой, лишь усиливали контраст между началом спек-такля и близившейся его развязкой. «Чувство безысходности», «пессимистическая мелан-холия», «мрачная подавленность», «уныние» и «угнетенность» — вот те слова, к которым прибегали критики, выражая чувства, с какими они покидали театр25. «Рождественский пода-рок весьма необычного свойства» — в этой ироничной характеристике спектакля, пред-ложенной Карлом Тране («Illustreret Tidende», 28 декабря26), угадывалась воля не только дра-матурга, но и постановщика27.

Театрон [1•2012]
58
Если как организатору сценического пространства Хольсту нельзя было отказать в творческой инициативе, то его работа с акте-рами в самом деле оказалась далека от совер-шенства. Как отмечал Микаэль Валлем Брун, обладавший метким взглядом театрального практика, «в одних местах ансамбль был прочен и хорош, а в других шаток и непрочен» («Folkets Avis», 24 декабря). Эдвард Брандес считал, что особенно сильно пострадали роли второго плана, к которым он относил фру Линне и Крог-стада28. Эти персонажи, увиденные актерами и постановщиком в рамках привычной системы мелодраматических амплуа, были изображе-ны так плоско и одноцветно, что рецензенты либо совсем не упоминали их, либо ограничи-вались крайне скупыми замечаниями в адрес исполнителей. Агнес Ден, привыкшая к ролям «чувствительных молодых дам», была на сей раз, как заметил один из критиков, «чуть менее слезоточива, чем во многих остальных запом-нившихся нам случаях» («Social-Demokraten», 23 декабря), и представляла собой, по словам Карла Плоуга, воплощенные кротость и сми-рение («F drelandet», 22 декабря). Более под-робных замечаний удостоился Софус Петерсен, обычно выступавший в комическом репер-туаре, а на этот раз явно примеривавший на себя амплуа мелодраматического злодея. «Г-н С. Петерсен, — писал Брун, — неплохо справил-ся с ролью Крогстада, хотя в его манерах ощу-щалась вульгарность, а отдельные реплики он произносил таким сдавленным голосом, что нужно было заранее знать пьесу, чтобы верно понимать их. То, что его маска несла на себе печать Каина, нисколько меня не удивляет — ибо в Королевском театре стало уже традицией сразу показывать публике, кто есть кто» («Folkets Avis», 24 декабря). Эрик Бёг, тоже наградивший актера умеренной похвалой, советовал ему «проявлять меньшую вспыль-чивость», так как «подобный крючкотвор несо-мненно привык держать свои чувства в узде»29. Как вспоминал Брандес много позднее, Крог-стад мог бы стать в спектакле интересной фи-гурой, если бы актер сумел найти для него ха-рактерные черты и не сводил все в конечном счете к «досадной сентиментальности»30. Таким образом, возможность мелодраматической трактовки этого персонажа использовалась Петерсеном в максимальной мере — включая эффектное преображение злодея-крючко-
твора в любящего и раскаивающегося греш-ника.
Доктору Ранку в исполнении Петера Йерндорфа повезло немногим более. Значи-тельная часть рецензентов находила эту роль малоинтересной и сценически невыигрышной, а потому не сочла возможным предъявлять актеру какие-либо претензии. «Г-ну Йерндорфу поручена роль доктора, — писал Карл Плоуг, — и такую задачу никак не назовешь благодарной, поскольку этот странноватый больной человек, возомнивший, что он способен угадать свой смертный час, и считающий себя ходячим тру-пом, введен в пьесу только для того, чтобы показать, что Нора, при всем ее легкомыслии, хранит верность своему мужу и с неохотой вы-слушивает любовные признания их лучшего друга; но для развития действия это вовсе не обязательно. Г-н Й<ерндорф> понял свою роль совершенно правильно, но поскольку эта фи-гура более устрашает, чем внушает симпатии, его игра принесла ему, разумеется, лишь весьма незначительные дивиденды» («F drelandet», 22 декабря).
Отмеченную Брандесом символичность доктора Ранка никто из критиков уловить не сумел, хотя нашлись среди них и те, кто, смут-но почувствовав эстетическую оригинальность персонажа, решил поиронизировать и над са-мим Ибсеном, и над новейшими литературно-художественными тенденциями. Так, один из рецензентов усмотрел здесь упоенность автора пьесы «патологическими благоуханиями, по которым сразу узнаются реалисты» («Berling-ske Tidende», 22 декабря), а другой расценил появление в драме Ибсена столь необычной для датского театра фигуры как «многозначитель-ный отход от чахоточных пациентов, выводи-мых на сцену французскими драматургами, в сторону любопытнейших субъектов из совсем другой больничной палаты» («Dags-Telegrafen», 23 декабря); «можно не сомневаться, — ехид-ствовал тот же критик, — что столь энергичный шаг в сторону от простодушной невинности ушедшей эпохи вызовет восторг у „молодой Дании“31 и вскоре повлечет за собою открове-ния с еще более сильным реалистически-носо-ло гическим духом»32.
Однако эта ирония, свидетельствовавшая о знакомстве рецензентов с книжной публика-цией «Кукольного дома», гораздо меньше за-трагивала спектакль Королевского театра, по-

Театр и драматургия
59
скольку Хольст весьма предусмотрительно изъял из текста пьесы слишком прямой намек на характер болезни доктора Ранка. Эдвард Брандес с ответным иронично колким подтек-стом зафиксировал благонамеренное само-управство постановщика: «Он (Ибсен. — А. Ю.) вряд ли одобрил бы то, как г-н Йерндорф трак-тует доктора Ранка. Никоим образом я не хочу сказать, что этот актер не подходит для указан-ной роли. Грим его хорош, да и многие реплики он произносит серьезно и с определенным шармом — пожалуй, даже с чрезмерным шар-мом, ибо бедный доктор Ранк не настолько уж нежен, мягок и мелкотравчат. Но в любом слу-чае изображение недостоверно. И вот тому маленький пример: разве позволил бы Ибсен вычеркнуть слова Норы об отце доктора Ран-ка — „он держал любовниц и все такое“33, — из-за чего последующие реплики делаются почти бессмысленными?34 Ведь подобный пропуск есть не что иное, как проявление смехотворной чопорности театра, который набрался-таки до-статочного свободомыслия, чтобы поставить „Амфитриона“35»36.
Другие критики лишь предельно бегло коснулись этого персонажа и представлявшего его актера. Брун вскользь заметил, что «г-н Йерндорф преподнес нам в высшей степени устрашающее привидение в меховом пальто», а Эрик Бёг ограничился прозрачным намеком: «Роль смертельно больного доктора без сомне-ния подавалась г-ном Йерндорфом чересчур мрачно. — Реплики позволяют исполнителю блеснуть черным юмором, но не обязывают его к изображению на сцене физических страданий. Разговор с Норой он провел очень изящно»37.
Столь краткие отзывы об игре актера не дают возможности составить ясное представ-ление о трактовке Йерндорфом доставшейся ему необычной роли. Мы никогда не узнаем, насколько органично и убедительно он наделял шармом и изяществом «в высшей степени устрашающее привидение». Но если учитывать также и то, что известно о его актерской инди-видуальности, можно уверенно утверждать, что в поставленном Хольстом спектакле доктор Ранк был, скорее, несколько гротескной, нежели трагичной, фигурой. Йерндорф, дебютировав-ший на профессиональной сцене в 1871 году в «романтическом сунгеспиле»38 Хострупа «Учитель и ученик», относился к тем актерам Королевского театра, которые не только вы-
ступали в самых разнообразных амплуа, но были также задействованы в оперных и балет-ных представлениях. Если в балете Йерндорф всегда оставался почти незаметен, то благодаря своему звучному, приятному и хорошо постав-ленному тенору он имел определенный успех в партиях Фауста (в операх Шарля Гуно и Арри-го Бойто), Вильгельма Мейстера в «Миньон» Амбруаза Тома и Гофмана в «Сказках Гофма-на» Жака Оффенбаха. Попробовав себя в на-циональном трагическом репертуаре (напри-мер, в ролях Олафа Трюгвесена и Эйнара Тáмбескьельвера в «Ярле Хоконе» Эленшлеге-ра), он вскоре навсегда его оставил, так как не отличился в нем ярким темпераментом, и бы-стро добился признания, перейдя на роли симпатичных шалопаев и забавных романтиче-ских мечтателей в комедиях и водевилях Хо-струпа, Йухана Людвига Хейберга и Ханса Кристиана Андерсена. Хольст никак не мог не учитывать это обстоятельство, когда назначал Йерндорфа на роль доктора Ранка. Дух так на-зываемого «копенгагенского эстетизма», с его культом «прекрасных форм», изолированных от слишком «грубой» жизненной реальности, требовал хоть как-то смягчить этот «чересчур мрачный» и, так сказать, «неудобный» образ, а Йерндорф хорошо умел изображать на сцене галантных светских кавалеров. При этом по-становщик, явно подыскивавший удовлетво-ряющий всех компромисс, счел необходимым полностью не пренебрегать житейской убеди-тельностью и потому поручил роль больного доктора актеру, имевшему за плечами медицин-ское образование39. Однако, если верить гораз-до более поздним воспоминаниям Эдварда Брандеса, соединение артистом изящества с про-фессионально обозначенными на сцене пато-логическими симптомами не могло компен-сировать нехватку подробной и глубокой психологической разработки образа: «Доктор Ранк у Йерндорфа совсем не получился. При-ходится все-таки сказать — поскольку этот милый господин уже оставил сей мир40, — что он явно был актером совсем иного плана и со-вершенно не обладал творческим даром. Здесь же он оказался начисто лишен изобрета-тельности и ничего для себя в этой роли не увидел, — а если благодаря своему солидному образованию кое-что и разглядел, то оказался не в состоянии изобразить. Конечно, можно утверждать, что со своим образованием он

Театрон [1•2012]
60
ничего и не испортил, но искусство все же тре-бует большего, чем ровность и гладкость, и если не достигается более высокая цель, то грош такой работе цена! Посредственности совер-шенно нечего делать за пределами простого и заурядного материала41. Даже в хваленой дикции Йерндорфа не было ничего выдающе-гося: его чистое датское произношение было правильным и красивым, каковым ему, впро-чем, и так надлежало быть; но он совсем не владел способностью делать свою речь доста-точно прозрачной для раскрытия многообраз-ных и вечно изменчивых настроений и чувств, прибегая к суховатому и даже несколько пло-скому звучанию голоса. Страсть, горечь, за-висть, злость были ему неведомы — он ведь был чрезвычайно славный малый, — и к тому же выявление ночной стороны человеческой души оставалось за пределами его искусства. Слав-ный малый — и небольшой артист! И со своей красивой и деланной дикцией он не мог, разуме-ется, играть увядающую добычу смерти, жерт-ву мрачной меланхолии, страдающую от бес-силия и от горечи безнадежной любви, — доктора Ранка»42.
Выразительный грим, «суховатое и даже несколько плоское звучание голоса», а также с неудовольствием отмеченное Бёгом изобра-жение физических страданий служили внеш-ним выражением болезни Ранка, оказываясь вынужденной данью натуралистическим по-ветриям. Однако сочетание всех этих средств с «шармом» и «изяществом» не могло, конечно, вывести актера за пределы привычной для него типажности. Несравнимо бóльшую, чем у Йерн-дорфа, психологическую проницательность, а также превосходное владение искусством тонких игровых нюансов проявил в спектакле Эмиль Поульсен — артист совершенно иного склада и намного более широкого жанрового диапазона. Его исполнение роли Хельмера было почти безоговорочно воспринято крити-кой как сценический шедевр, а Эдвард Брандес позднее решительно утверждал, что из всех актеров, игравших в первом «Кукольном доме», только Поульсен был на высоте ибсеновского художественного замысла43.
Как и его ровесник Йерндорф, Поульсен имел не только солидное образование (учеба в Метрополитансколе позволила ему уже в де-вятнадцатилетнем возрасте блестяще сдать экзамен по философии, а спустя пять лет —
государственный экзамен по филологии), но и опыт выступлений на любительской сцене. Очень скоро после весьма удачного дебюта в Королевском театре (состоявшегося 16 ап реля 1867 года в комедии Хольберга «Эразмус Мон-танус», где он сыграл заглавную роль) Поуль-сен стал ведущим актером труппы44. Как утверждал Эдвард Брандес в 1880 году, Эмиль Поульсен и его младший сводный брат Олаф, неся на себе важнейшую часть репертуара, так сильно выделялись среди своих коллег, что по степени одаренности между ними и другими представителями их актерского поколения лежала непреодолимая пропасть45. При этом Поульсен играл роли самых разнообразных амплуа и появлялся на сцене не только в дра-матических спектаклях. «Можно в течение одной недели, — писал Брандес, — увидеть его вы-ступающим в большой оперной партии, в ро ли элегантного бонвивана, мелодраматического злодея и романтического любовника. В одной и той же пьесе он может попеременно играть совершенно разные роли: в „Тартюфе“ — Дами-са и самого Тартюфа, в „Банкротстве“46 — Сан-неса и Берента, в „Союзе молодежи“ — врача и Люннестада. Когда к постановке готовился „Кукольный дом“, Поульсен настойчиво до-бивался роли доктора Ранка, но все же дал себя уговорить сыграть Хельмера»47.
Актер, вошедший в историю датской сце-ны в первую очередь как выдающийся театраль-ный интерпретатор Ибсена, достигал тогда наибольших высот в классическом репертуаре и спектаклях по историческим драмам48. При этом он старался по возможности держаться в стороне от популярной драматургической продукции современных французских авто-ров49, которых его норвежский кумир тоже не жаловал. Обладая не только ярко выраженной творческой инициативой (позволившей ему много позднее заняться режиссерской деятель-ностью), но также высокой культурой и интел-лигентностью, Поульсен неизменно проявлял их в работе над своими ролями, за что его осо-бенно ценил Брандес. Усматривая в артисте одну из примечательнейших фигур переходно-го времени, критик дал ему в 1880 году такую характеристику: «В целом как художник он является эклектиком. Он все время выбирает между декламацией и природой, старым и но-вым, консервативным и радикальным. Может показаться удивительным, что исполнение им

Театр и драматургия
61
роли епископа Николаса постепенно преврати-ло его в модного актера, копенгагенского дам-ского любимца. Художники, рьяно влекущиеся к новому, редко становятся модными, и нелег-ко завоевать благосклонность публики тем, кто наносит удары по ее вкусам или просто не угождает им. Однако последнего Поульсен никоим образом не делает. Но у него — я гово-рю об этом исключительно с художественно-психологической точки зрения — мягкая на-тура, и с его представлением о благородстве он не настроен доводить какое-либо дело до край-ности. В его даровании есть нечто смутно-туманное и лирическое, то, что получило во-площение в таких ролях, как Бертран де Борн и Амвросий50; считаю, что ими вряд ли пред-ставлен его художественный идеал, но он все же влечется ко многому из того, что еще в юно-сти покорило его в поэзии былых времен, хотя вместе с тем он чувствует себя достаточно сильным как художник, когда его подчиняют себе духовные задачи современности. Новое ему интересно в гораздо большей мере, но он ни за что не решится порвать со старым. Коро-че говоря, он не примыкает ни к одной из пар-тий. То, что он берется за такие разные роли, частично объясняется его сильной нуждой в не-престанной умственной работе»51.
Нельзя не заметить в этой содержательной характеристике тех черт, которые роднили По-ульсена с норвежским драматургом и способ-ствовали его превращению в одного из круп-нейших ибсеновских актеров того времени. Великий создатель «драмы идей», Ибсен так же сильно нуждался в непрестанной умствен-ной работе, так же не примыкал ни к одной из партий (что неизменно подчеркивал, когда его пытались отнести к какому-либо художествен-ному, идеологическому или политическому лагерю52) и, при всем своем радикализме, всег-да опирался на глубоко укорененные в про-шлом культурные традиции. Беря на воору-жение отдельные идеи натуралистов, он пользовался ими в целях, которые лишь очень поверхностному взгляду казались «натурали-стическими»53. И то же самое необходимо сказать о связях Ибсена с символизмом54. Что же касается его миропонимания, то оно в своих глубинах всегда оставалось религиозным, проч-но связанным с миром усвоенного еще в отро-ческие годы лютеранства — хотя отношение Ибсена к христианству (и особенно христиан-
ской церкви) его эпохи было, как и у Киркего-ра, резко критическим55. Так что Эдвард Бран-дес, тонко и деликатно спародировавший в статье о «Кукольном доме» склонность авто-ра к библейским речевым оборотам и аллю-зиям, находил, видимо, достаточно причин, чтобы усматривать «эклектизм» не только у Поульсена, но и у Ибсена. Однако прямо на-писать об этом он так никогда и не решился, ибо слишком велико было у братьев Брандесов желание представить своим «застрельщиком» крупнейшего драматурга Скандинавии…
Разумеется, бессмысленно гадать о том, каким был бы сыгранный Эмилем Поульсеном доктор Ранк. Однако влечение актера именно к этому персонажу, безусловно, подтверждает слова Брандеса о повышенном интересе По-ульсена к эстетической новизне. Но если он все же дал уговорить себя сыграть Хельмера, то, вероятно, потому, что и в этой роли он сумел разглядеть новые для своего искусства возмож-ности. Результатом же стала многомерность созданного им на сцене образа, являвшая собою то сочетание «индивидуального и типическо-го», которое особо отмечал Брандес в централь-ных фигурах «Кукольного дома».
«Г-н Поульсен уже не раз нам показывал, что он понимает Ибсена так, как способны по-нимать его лишь немногие, — писал Карл Тра-не. — Но Хельмер является, пожалуй, самой совершенной его ролью в ибсеновском репер-туаре. Ни один нюанс, ни одна тонкая деталь в переходных состояниях не ускользнули от его внимания, и он сыграл свою роль с такой прав-дивостью, что его трактовка целиком и полно-стью убеждает. Если время от времени мы на-чинали относиться к Хельмеру лучше, чем он по сути своей заслуживает, то одной из причин тому является наложившее на его личность отпечаток чувство прекрасного, каковым Хель-мер обладает в чересчур высокой степени. Однако при этом актер не вводит нас в заблуж-дение и по ходу своих ребяческих игр с Норой достаточно сильно подчеркивает эгоистичность и чувство собственного превосходства. Осо-бенно мастерским стало изображение в послед-нем акте легкого опьянения шампанским, эротической настроенности и всех изменчивых душевных волнений при переходе от бешено-го гнева к ликованию; в игре актера чувство-валась какая-то своеобразная полётность, а многочисленные подробности складывались

Театрон [1•2012]
62
в полную, целостную и великолепную кар-тину».
Если учитывать, что Поульсен был скло-нен прислушиваться к критическим замечани-ям рецензентов, можно предположить, что он принял к сведению высказывание Плоуга, по-явившееся на следующий день после премьеры: «Играя Хельмера, г-н Э. Поульсен надел на него маску, удачно намекающую на то, что за уступ-чивостью и влюбленностью этого супруга при-таился жестокий эгоизм. Но мы не считаем правильным то, что он слегка пошатывается, являясь домой после вечеринки; это делает слишком резким переход к серьезности и горю; он должен быть только возбужден и взволнован своей влюбленностью».
Однако, как отметил Эрик Бёг, актер и с этим «резким переходом» достигал высо-кой степени убедительности и искуснейшего владения деталями: «Г-ну Эмилю Поульсену досталась превосходно задуманная, но не очень-то благодарная задача сыграть мужа. Повсед-невные любезность и почтенность, которых становится недостаточно, когда „начинается время великих чувств“, представлены актером красиво, естественно и без излишнего подчер-кивания недостатков персонажа, а близорукая самодовольная веселость в общении с ис-терзанной страданиями женой, сильное опья-нение шампанским, сначала переходящее в ожесточение, а затем сразу в банальное лико-вание, и в довершение всего многочисленные изменчивые настроения в заключительной сцене, где ему нужно реагировать на начатую Норой процедуру развода, — все это было на-сыщено ясными и превосходно поданными подробностями, которые составляли единое целое в его тщательно проработанном испол-нении»56.
Вместе с тем, как отмечал придирчивый Микаэль Валлем Брун, не нашедший даже мелких недочетов в игре актера, Хельмер, со всем его эгоизмом, в заключительной сцене не производил впечатления бессердечного респек-табельного господина, озабоченного лишь со-хранением своей безупречной «маски»: «Г-н Э. Поульсен сыграл роль Хельмера красиво и естественно — в начале, разумеется, с при-знаками рефлексирующей зоркости, которой он всегда пользуется, разрабатывая свои роли, но в третьем акте с такими горячими, глубоки-ми и искренними сердечностью и чувством, что
это примирило бы публику с безобразием фи-нальной сцены, если такое вообще было бы возможно». Отмеченные Бруном «сердечность и чувство» усиливались, скорее всего, той поч-ти неизменной характерной манерой Поульсе-на (обладавшего, надо сказать, богатой голосо-вой палитрой), которую отметил Брандес в своем тонком исследовательском этюде об искусстве этого актера: «Когда он форсирует голос, по-следний обретает легкий и едва заметный жа-лостливый обертон. Лицо при этом также принимает страстное и несколько болезненное выражение, так что в чертах его появляется какая-то угнетенность, сразу начисто лишаю-щая его гармонии»57. Горячая, глубокая и ис-кренняя эмоциональность актера в финаль-ном разговоре с Норой как будто усиливала надежду публики на «чудо из чудес», придава-ла особую значимость, вероятно, кульминаци-онному в последней сцене спектакля обмену репликами:
Х е л ь м е р . У меня хватит силы стать другим.Нора. Быть может — если куклу у тебя отнимут.Хельмер. Расстаться… расстаться с то-бой!.. Нет, нет, Нора, представить себе не могу!58
Однако в самом конце, уже почти под за-навес, перед тем как раздавался грохот захлоп-нувшихся внизу ворот, эта брошенная удру-ченной публике надежда тонко и с лукавой иронией ставилась актером под сомнение. «Хочу все же запечатлеть хотя бы такую ис-тинно гениальную находку актера, — восхищал-ся Брандес. — Когда он поникает у дверей, через которые ушла Нора, своею ослабевшею рукою он случайно касается клавиш открытого пиа-нино, мгновенно издающих столь ужасный диссонанс, что он внезапно и непроизвольно подскакивает»59. Тем самым с помощью неожи-данной смены ракурсов Поульсен выражал свое собственное критичное отношение к персона-жу, мгновенно очищая игру от только что об-разовавшегося, казалось бы, мелодраматиче-ского налета. При этом он не только усиливал отмеченное всеми рецензентами «чувство дис-сонанса», которое вызывала у них развязка драмы («диссонанса» для публики тем более нестерпимого, что он остро дисгармонировал

Театр и драматургия
63
с мелодраматично подававшейся сценой Крог-стада и фру Линне в начале третьего действия), не только демонстрировал непреодолимость «эстетизма» своего героя (как будто вынуждая зрителей задуматься — уж не была ли вся его «искренняя сердечность» в разговоре с Норой всего лишь великолепно разыгранным спекта-клем?), но и — вполне вероятно! — осознанно пародировал бурную реакцию противников новой пьесы Ибсена — реакцию, которую актер словно предчувствовал.
«Не нахожу достаточно слов, чтобы воз-дать хвалу г-ну Э. Поульсену за его игру в тре-тьем акте, — писал Брандес о втором представ-лении спектакля. — Это был совершеннейший шедевр. Легкое опьянение Хельмера, его фан-тастическое сладострастие, направленное на принаряженную Нору, его черствые выска-зывания о Ранке и — более всего — грубый и наглый эгоизм в момент узнавания изобра-жались с восхитительно естественной правди-востью. Он был целиком на пике своей роли также и в последнем разговоре, в ходе которого поэтапно рушится вся Хельмерова система фраз, в то время как он отчаянно сражается, чтобы спасти свою шкуру»60.
И все же в громком хоре восторженных похвал артисту внезапно раздался, пускай и не-сколько запоздалый, голос, вносивший в этот хор не менее резкий диссонанс, чем тот, кото-рый издавали в конце спектакля клавиши пиа-нино под касанием руки удрученного Хельмера. Этот голос принадлежал начинающему двад-цатитрехлетнему писателю Герману Бангу, уже нащупывавшему свой самостоятельный и не-зависимый от «молодой Дании» Брандесов путь.
«Актер Поульсен кое-что передал, но не все, — писал Банг в своей статье о „Кукольном доме“, появившейся спустя почти год после премьеры драмы. — В роли Хельмера он недо-статочно изящен. А адвокат ведь превосходно воспитанный человек. Нет совершенно никаких сомнений в том, что в лице Хельмера мы имеем дело с высокообразованным человеком с раз-витым вкусом и сдержанным нравом, с джентль-меном, достигшим высокого положения в банке не только потому, что он способный и честный юрист, умеющий довольно ловко обращаться с делами, но также и потому, что он знает, как себя подать, как себя вести, — потому что он тот, кого обычно называют красивой вывеской
для всего предприятия. „Ни у кого ведь нет такого вкуса, как у тебя“, — говорит ему Нора. И это не просто мнение ослепленной любовью жены, которая то и дело возвращается к этой фразе. Ранк и фру Линне также считают уста-новленной истиной его превосходное образо-вание и изысканный вкус. <…> Все указывает на то, что Хельмер — насквозь эстетическая, в высшей степени восприимчивая к красоте натура, стремящаяся и к чисто внешнему изя-ществу. То, как рекомендует его жена, сильно укрепляет нас в еретическом мнении, резко противоречащем всем утверждениям, что г-н Поульсен играет превосходно, так как он до-гадался представить эту фигуру с отчетливым и мастерски поданным отпечатком „полуоб-разованности“61. <…> Г-н Поульсен наделяет Хельмера подчеркнутой неотесанностью, кото-рая напоминает о рыцаре удачи или, по мень-шей мере, парвеню. Но у Ибсена не найти ни-чего такого, что могло бы защитить или оправдать такой подход: неуместная грубость целиком привнесена в роль адвоката исполни-телем. Хотя, с другой стороны, вполне понятно, откуда берется эта примесь. Г-н Поульсен с самого начала подготавливает нас к жестоко-сти как определяющей черте характера Хель-мера, впервые проявляемой актером во втором акте, когда он, несмотря на мольбы Норы, от-сылает письмо Крогстаду, — в сцене, где слова Хельмера могут быть, между прочим, поняты и истолкованы совсем не так, как это делает г-н Поульсен, — к той жестокости, что достигает кульминации в большой сцене последнего акта, в которой шампанское извлекает из супруга „зверя“. А зверь ведь таится в каждом человеке, и в жизни каждого из нас наступает мгновение, когда он пробуждается. Но именно в эстетиче-ских натурах прячется самый неподдельный зверь, и как раз на этой основе актер достиг бы большей правдивости и силы — если бы играл Хельмера более изящным, более благородным, более элегантным, нежели теперь. Ибо г-ну Поульсену так же прекрасно известно, как и нам, что даже самый утонченный и изыскан-ный вкус, самые безупречные tournure62 не исключают жестокости и не убивают в челове-ке зверя. Напротив, каждая новая страница истории учит нас, что именно эстетические натуры чаще всего проявляют чрезвычай-ную жестокость — ту хорошо известную духов-ную жестокость (курсив мой. — А. Ю.), что

Театрон [1•2012]
64
отличнейшим образом сочетается с самой ра-финированной утонченностью»63.
Все эти замечания Банга актеру, конечно, очень содержательны, а психологическая проницательность юного автора не только свидетельствует о безупречном усвоении им идей Киркегора, имя которого прямо упомина-ется в начале статьи64, но и предвосхищает, пускай весьма отдаленно, подход Томас Манна к проблеме эстетизма из его послевоенной статьи о Фридрихе Ницше65. Однако, признавая интеллектуальную зоркость критика, нельзя вместе с тем отрицать правоту Поульсена, постаравшегося максимально обнажить в сво-ем персонаже «звериное» начало, дабы резче подчеркнуть контраст между реальностью и обманчивыми эстетическими иллюзиями, способными, разумеется, греть влекущуюся к художествам душу, но при этом совсем не
помогающими вытаскивать ее из «трясины» (а потому как знать — не такая ли актерская интерпретация вдохновила Брандеса на за-мечание о «брутальных страстях», которые «могут таиться под покровом самой высокой цивилизации»?). Если же не забывать о том, что этого «неотесанного», но ценящего все пре-красное жестокого «зверя» всей душой лю-била «юная прелестная женщина», под обаяние которой подпал не только восторженно вос-певший ее молодой Герман Банг, но и катего-рично не принимавший трактовку актрисы Эдвард Брандес, то можно предположить, что дуэт Эмиля Поульсена и Бетти Хеннингс об-ретал отнюдь не тривиальный и даже, пожа-луй, чрезвычайно интригующий и содержа-тельный смысл.
Окончание следует
1 Ибсен Г. Полное собрание со-чинений: В 4 т. СПб., 1909. Т. 4. С. 438. Заодно обратим внимание читателя на сильное недовольство драматурга следующим обстоятель-ством: после публикации «Столпов общества» Фаллесен без ведома драматурга договорился с редакци-ями копенгагенской прессы о том, что они не станут публиковать статьи о пьесе до ее столичной премьеры (см. письмо Ибсена цензору Королевского театра Кри-стиану Мольбеку от 30 октября 1877 г.: Там же. С. 439). Хотя Мольбек, скорее всего, передал дирекции театра мнение Ибсена по этому вопросу, с «Кукольным домом», как было уже отмечено, случилась сходная история.
2 Например, Георг Брандес за-фиксировал случай на обеде в честь Ибсена, данном в Кристиании вскоре после его возвращения на родину в 1891 г.: «Тут поднялся некий редактор, сидевший рядом с блестящей, очаровательной ак-трисой Констанс Бруун, и сказал: „Моя соседка по столу просит меня передать доктору Ибсену горячую благодарность от всех актрис Христиании и особо отме-тить, что нет ролей, которые они играли бы охотнее и из которых извлекали бы для себя больше, чем
Примечания
те, что написаны им“. — Ибсен: „На это я вынужден заметить, что вовсе не пишу ролей, а изображаю людей и что никогда в жизни, разрабатывая тот или иной об-раз, не имел в виду какого-то определенного актера либо актри-су“» (Брандес Г. Генрик Ибсен. Подведение итогов // Судья и строитель: Писатели России и За-пада о Генрике Ибсене. М., 2004. С. 257–258). См. также: Koht H. Henrik Ibsen: Eit diktarliv. Oslo, 1954. Bd. 2. S. 109.
3 Ср. признание драматурга, записанное немецким писателем и журналистом Михаэлем Геор-гом Конрадом и датируемое 1886 г.: «Я всегда исхожу от индивида. Явления, сценические картины (курсив мой. — А. Ю.), драматиче-ский ансамбль — все это приходит после, само собою, и я нисколько об этом не беспокоюсь, раз только я вполне овладел индивидом во всей его человечности. Мне необ-ходимо также видеть его перед собою воочию всего, с внешней стороны до последней пуговицы, его походку, манеру, голос. А затем я уже не выпущу его, пока не свер-шится его судьба» (цит. по: Ганзен А. В. и П. Г. Жизнь и литературная деятельность Ибсена // Ибсен Г. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 713).
4 Любопытно, что в случае с ге-роиней «Кукольного дома» дело доходило почти до галлюцинаций. Один из крупнейших биографов драматурга Халвдан Кут особо выделил такой эпизод: «Однажды в ходе работы над пьесой он [Иб-сен] сказал своей жене: „Я только что видел Нору. Она подошла ко мне и положила свою руку мне на плечо“. „И как же она была оде-та?“ — спросила его жена. „В про-стенькое шерстяное платьице го-лубого цвета“, — ответил он со всей серьезностью» (Koht H. Henrik Ibsen: Eit diktarliv. Bd. 2. S. 104).
5 Цит. по: Ганзен А. В. и П. Г. Жизнь и литературная деятель-ность Ибсена // Ибсен Г. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 717.
6 В связи с этим заслуживают внимания мысли Ибсена, выра-женные уже в одной из его теа-тральных рецензий 1851 года — еще до того как он занялся сцени-ческой практикой в Бергене (см.: Ибсен Г. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1958. Т. 4. С. 603–605). Срав-нивая французскую драматургию с немецкой, он отметил, что первая из них по преимуществу начинает существовать лишь «с помощью актеров, как опосредствующего органа», а вторая гораздо чаще довольствуется статусом «литера-

Театр и драматургия
65
турного жанра, предназначенного для чтения». В глазах Ибсена оба варианта были несовершенны, так что все последующие его пьесы (за исключением, пожалуй, «Бранда» и «Пера Гюнта») есть смысл рас-сматривать как поиск наиболее убедительного и органичного со-четания «литературности» и «сце-ничности», в конечном счете сде-лавший великого норвежца твор-цом «новой драмы».
7 Ибсен Г. Собрание сочинений. Т. 4. С. 724–725.
8 Слова драматурга, зафиксиро-ванные Германом Бангом (см: Ганзен А. В. и П. Г. Жизнь и лите-ратурная деятельность Ибсена // Ибсен Г. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 718). В этом отношении примечательны также воспоминания Конрада, цитируемые в указанной статье: «На вопрос Конрада — какое впе-чатление производят на Ибсена созданные им образы в воплоще-нии артистов, соответствует ли это воплощение образам его фантазии, писатель ответил „с усмешкой, как-то скривившей его губы“:
„— Я ведь редко хожу в театр. Если публика довольна, то и я до-волен. Я сообщаю вам это как факт, но прошу не выводить из этого никаких дурных заключе-ний“» (Там же. С. 713).
9 Мольбек, состоявший в прия-тельских отношениях с Ибсеном, дал следующее резюме: «В драма-тургическом и психологическом отношениях это превосходное изо-бражение супружеской коллизии, за развитием которой следишь с напряженным интересом от на-чала до последней сцены, где раз-рываются брачные узы. То, что лично я нахожу развязку не только неудовлетворительной и тягостно неприятной, но также психологи-чески недостаточно мотивирован-ной, не может изменить моего мнения о пригодности пьесы для сцены, и я безоговорочно одобряю ее к представлению» (цит. по: Neiiendam R. Det Kongelige Teaters Historie 1874–1922. København, 1925. Bd. 3. S. 57).
10 Именно под ее руководством были осуществлены в 1870–1871 гг. первые датские постановки иб-
сеновских пьес «Союз молоде-жи» и «Борьба за престол», имев-шие большой успех. «Я должник Ваш — и надолго», — писал драма-тург в большом стихотворении, адресованном фру Хейберг (см.: Ибсен Г. Собрание сочинений. Т. 4. С. 577).
11 См.: Neiiendam R. Det Kon-gelige Teaters Historie 1874–1922. København, 1921. Bd. 1. S. 169.
12 См.: Ibidem. Bd. 3. S. 62–64.13 Brandes E. Henrik Ibsens «Et
Dukkehjem» paa det kgl. Theater // Ude og Hjemme. 1880. № 118. 4. Januar. S. 152.
14 Еще в Бергене Ибсен, зани-мавший должность второго режис-сера, воздерживался от замечаний актерам на репетициях из-за своей гипертрофированной застенчиво-сти и лишь в крайних случаях ре-шался сообщать им о своих поже-ланиях, прибегая к посредниче-ству третьих лиц (подробно об этом см.: Meyer M. Henrik Ibsen: En biografi. Oslo, 1995. S. 108–109). Эта нерешительность драматурга при контактах с людьми театра в значительной мере сохранялась и позднее, так что далеко не все его отзывы об увиденных спектаклях отражали его истинное мнение. Характерен, например, случай, связанный как раз с «Кукольным домом». По воспоминаниям Йуна Паульсена, в феврале 1880 г. Ибсен присутствовал на всех ре-петициях драмы в мюнхенском Резиденц-театре (которыми руко-водил игравший доктора Ранка Эрнст Поссарт), а затем и на пре-мьере 3 марта, вызвавшей настоя-щий фурор. «Постановка была превосходна, — писал Паульсен. — Особенно хороша была фрау Ма-рия Рамло в роли Норы, и после представления Ибсен горячо бла-годарил ее и других артистов. Ка-залось, что с его точки зрения спектакль идеален. Однако позд-нее, когда мы принялись у него дома обсуждать постановку, кото-рую я оценил весьма высоко, он выказывал сплошное раздраже-ние. Не только главные исполни-тели совершенно не поняли своих ролей, но не понравилась ему и ле-жавшая в гостиной газета — она
создавала неподходящее настрое-ние, — и он выражал недовольство всеми деталями постановки, даже тем, что руки у Норы были совсем не такие (короче или длиннее, чем нужно, я уж не помню)» (цит. по: Østvedt E. Et Dukkehjem: Forspillet, Skuespillet, Etterspillet. Skien, 1976. S. 183).
15 Вильям Блок, испытавший влияние натуралистической эсте-тики, по праву считается зачина-телем режиссерского театра в скан-динавских странах. Ставя «Врага народа» (премьера состоялась 4 марта 1883 г. после тридцати двух репетиций), Блок уже основывал-ся на убеждении, что «задача ре-жиссера — творчески разрабаты-вать произведение драматурга» и что «замысел натуралистическо-го режиссера начинается там, где кончается замысел автора пьесы» (см.: Nathansen H. William Bloch. København, 1928. S. 86). Его сце-нические концепции предвари-тельно фиксировались в подроб-нейших рукописных эксплика-циях, занимавших иногда сотни страниц, и предполагали не только продуманность всех декорацион-ных, световых и звуковых элемен-тов представления, организуе-мых в единую и всегда предельно конкретную «жизненную среду», но и беспрекословное подчинение режиссерской воле актеров, объ-единяемых в целостный ансамбль и обязанных принимать исходив-шее от режиссера толкование психологии персонажей. Как пи-сал о «Враге народа» Свен Ланге, один из крупнейших датских теа-тральных критиков рубежа XIX–XX вв., «тщательность, с которой Блок выстраивал и шлифовал каждую мельчайшую деталь, соз-давала феномен, не имевший даже близкого подобия ни в одном из театров Скандинавии. Его спек-такль сиял за линией рампы, как блестящий и сверкающий алмаз» (Lange S. Meninger om Teater. København, 1929. S. 246).
16 См.: Marker F., Marker L.-L. The First Nora: Notes on the World Premiere of A Doll’s House // Con-temporary Approaches to Ibsen. Oslo; Bergen; Tromsö, 1971. Vol. 2.

Театрон [1•2012]
66
P. 96. Приводимые ниже сведения из до сих пор не опубликованных внутритеатральных документов, связанных с постановкой, также почерпнуты из указанной статьи.
17 Читатель может увидеть эту фотографию в Интернете, пройдя по ссылке: http://www.ibsen.net/index.gan?id=138&subid Семь других фотографий, связанных со спектаклем, размещены по адресу: http ://www.ibsen.net/index.
gan?id=1666418 См.: Ибсен Г. Собрание сочи-
нений: В 4 т. М., 1957. Т. 3. С. 375, 406, 430.
19 Следует учитывать, что в 1870-е гг. представления комедий Хольберга в Королевском театре давались очень часто.
20 Цит. по: Marker F., Marker L.-L. The First Nora: Notes on the World Premiere of A Doll’s House // Con-temporary Approaches to Ibsen. Vol. 2. P. 87.
21 Как тут не вспомнить наста-вительное замечание Н. Я. Берков-ского: «Критика любила указывать на отдельные мотивы и детали раннего Ибсена — автора драм „высокого стиля“, — повторяю-щиеся в его позднейших „мещан-ских“, камерных, бытовых драмах. Нужно идти значительно дальше. Для Ибсена все его камерные со-временные драмы создавались в свете собственной его драматур-гии первого периода — историко-героической и философской» (Берковский Н. Я. Ибсен (1956) // Берковский Н. Я. Статьи о литера-туре. М.; Л., 1962. С. 220).
22 Читая «Кесаря и Галилеяни-на», постановщик «Кукольного дома» мог заметить склонность Ибсена как к «рембрандтовской» игре светотенью, прерываемой резким контрастом тьмы и света, так и к размещению по центру в глубине сценической площадки наиболее важных в смысловом отношении компонентов зрелища (так, во вводной ремарке к перво-му действию «Отступничества цезаря» указана на заднем плане ярко освещенная в пасхальную ночь дворцовая церковь, в то время как поверженные статуи языче-ских богов находятся на затемнен-
ном участке сцены; в последнем же акте первой части действие разво-рачивается в катакомбах, где на-верху, в центре погруженной по-началу в полумрак картины, скры-та за замкнутой дверью незримая до конца акта внутренность церк-ви, где так же, как и в первом акте, ведется служба). Подробно о важ-ности в «современных драмах» Ибсена восходящего к барочной сцене центрированного простран-ственного фокуса см.: Rokem F. Theatrical Space in Ibsen, Chekhov and Strindberg: Public Forms of Privacy. Ann Arbor, 1986. P. 13–28.
23 Ибсен Г. Собрание сочинений. Т. 3. С. 449.
24 Цит. по: Marker F., Marker L.-L. The First Nora: Notes on the World Premiere of A Doll’s House // Con-temporary Approaches to Ibsen. Vol. 2. P. 98.
25 Решивший блеснуть остро-умием Эрик Бёг начал свою рецен-зию диалогом двух копенгагенцев как «пронесшимся по всему городу эхом воскресного спектакля»:
« — Что скажете о новой пьесе Ибсена?
— Замечательно, неописуемо по воздействию — достойно вос-хищения от начала и до самого конца!
— А исполнение?— Превосходно!— Значит, Вы получили неска-
зáнное удовольствие?..— О да, совершенно ошелом-
ляющее. В театре меня никогда еще так не терзали!» (Bøgh E. Hen-rik Ibsen: «Et Dukkehjem» // Bøgh E. Udvalgte Feuilletoner («Dit og Dat») fra 1879. København, 1880. S. 252–253).
26 За исключением особо огово-ренных в сносках случаев, здесь и далее тексты рецензий на спек-такль приводятся по их пол-ным публикациям на интернет-сайте: http://ibsen.net/index.gan?id=208&subid=0
27 Вполне естественно, что гром-кий успех сыгранной в канун Рождества премьеры слегка по-страдал: «По ходу представления пьесу встречали бурными апло-дисментами, но по окончании по-следнего действия посреди овации
раздалось с балконов шиканье не-довольных мужей» (-a- [Jacobsen A. L.]. Et Dukkehjem: Skuespil i tre Akter af Henrik Ibsen // Morgen-bladet. København, 1879. № 298. 23. December. S. 4). Можно предпо-ложить, что отмеченная рецензен-том негативная реакция объясня-лась не только оскорбленным мужским достоинством, но и рез-ким несоответствием финала бо-дрой предпраздничной атмосфере первых сцен спектакля, полностью совпадавшей с первоначальным настроением зала.
28 См.: Brandes E. Henrik Ibsens «Et Dukkehjem» paa det kgl. The-ater // Ude og Hjemme. 1880. № 118. 4. Januar. S. 152.
29 Bøgh E. Henrik Ibsen: «Et Duk-kehjem» // Bøgh E. Udvalgte Feuil-letoner («Dit og Dat») fra 1879. S. 262.
30 См.: Brandes E. Ibsen-Opførels-er (1928) // Brandes E. Om Teater: Anmendelser og Erindringer fra henved 50 Aar. København, 1947. S. 150. Попутно зададимся вопро-сом: приписывая образу Крогстада мелодраматичность в самой пьесе, не оказался ли Брандес под влия-нием (не вполне им осознанным) трактовки этого персонажа Петер-сеном? Как свидетельствует пере-писка критика, он присутствовал на премьере, еще не успев прочи-тать драму, которую изучил в пе-чатном варианте только перед по-сещением второго представления спектакля, состоявшегося 28 дека-бря (см.: Meyer M. Henrik Ibsen: En biografi. S. 462).
31 Т. е. у представителей движе-ния «современного прорыва» в дат-ской литературе 1870-х гг., идео-логом которого был Георг Брандес и в котором нашли преломление натуралистические тенденции.
32 Цит. по: Marker F., Marker L.-L. The First Nora: Notes on the World Premiere of A Doll’s House // Con-temporary Approaches to Ibsen. Vol. 2. P. 95.
33 Слова Норы из ее разговора с фру Линне в начале второго действия: Ибсен Г. Собрание со-чинений. Т. 3. С. 408.
34 В самом деле интересно за-думаться над тем, как воспринял

Театр и драматургия
67
бы Ибсен это «пуританское» само-вольство. Ведь в большинстве случаев драматург вполне лояльно относился к сценическим купю-рам, что подтверждают, в частно-сти, воспоминания Конрада:
«— Так вы ничего не имеете против пропусков? — спросил я, крайне заинтересованный.
— Нет. С условием, что они будут сделаны без ущерба для драматического действия и что основная мысль будет выступать так же ярко. Суть не только в от-дельных словах. Кто хочет, может отыскать их в книге. В театре я до-вольствуюсь настоящим сильным впечатлением.
— Однако, г-н доктор… — вы-рвалось у меня.
— Да, да, знаю. Постановка пьесы без всяких урезок всегда останется идеалом. Но приходится брать людей театра, каковы они есть. Когда-нибудь да опомнятся» (цит. по: Ганзен А. В. и П. Г. Жизнь и литературная деятельность Иб-сена // Ибсен Г. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 715).
35 Подразумевается спектакль по мольеровской комедии, впер-вые сыгранный 10 сентября 1879 г. с участием П. Йерндорфа в заглав-ной роли. На тот момент «Амфи-трион» не показывался на датской сцене более столетия, если не учи-тывать однократную попытку Королевского театра представить отдельные сцены пьесы в апреле 1816 г.
36 Brandes E. Henrik Ibsens «Et Dukkehjem» paa det kgl. Theater // Ude og Hjemme. 1880. № 118. 4. Januar. S. 152.
37 Bøgh E. Henrik Ibsen: «Et Duk-kehjem» // Bøgh E. Udvalgte Feuil-letoner («Dit og Dat») fra 1879. S. 262.
38 Жанр аналогичный немецко-му зингшпилю.
39 В 1861 г. Йерндорф поступил на медицинское отделение Метро-политансколе — одного из пре-стижнейших учебных заведений Дании, основанного еще в XIII в. и дававшего не только специали-зированное, но и превосходное классическое образование. За год до своего дебюта в Королевском театре (которому предшествовал
большой опыт выступлений на любительской сцене) двадцати-восьмилетний отставной лейте-нант Йерндорф сдал государствен-ный экзамен по медицине, что позволяло ему беспрепятственно заниматься врачебной деятельно-стью.
40 П. Йерндорф скончался 23 декабря 1926 г.
41 Столь суровый приговор Йерн-дорфу приходится расценивать как преувеличение хотя бы пото-му, что сам же Брандес удостоил актера похвалы за исполнение им такой трудной роли, как Грегерс Верле, в поставленной Вильямом Блоком «Дикой утке» (премьера этого спектакля состоялась в Ко-ролевском театре 22 февраля 1885 г.). Критик с безусловным одобрением отмечал, что Йерн-дорф удачно воплотил этот «сим-волический» образ, не побоявшись выглядеть неприятным и раздра-жающим и наделив своего героя «судорожной импульсивностью и лунатизмом» (см.: Brandes E. «Vildanden» paa det kgl. Theater (1885) // Brandes E. Om Teater: Anmendelser og Erindringer fra henved 50 Aar. S. 20). Не приходит-ся сомневаться в том, что общая трактовка образа Грегерса Верле исходила не от актера, а от режис-сера, увлеченного натуралистиче-скими идеями, которые он первым в Скандинавии последовательно переводил на театральный язык; однако выбор Блоком именно этого артиста на одну из централь-ных ролей уже сам по себе показа-телен. То, что Эдвард Брандес со-всем забыл о своих похвалах Йерн-дорфу, могло быть в значительной мере обусловлено резким неприя-тием интерпретации актером роли пастора Мандерса — как в первой в истории Королевского театра по-становке «Привидений», показан-ной в январе 1903 г. (и иг рав шейся до мая 1908 г.), так и в следую-щей — шедшей с декабря 1917 г. по апрель 1922 г. (роль фру Ал-винг в обоих спектаклях неизмен-но играла Бетти Хеннингс). Йерн-дорф, исходя из слов, адресован-ных пастору фру Алвинг — «вы были и останетесь большим ребен-
ком, Мандерс» (Ибсен Г. Собрание сочинений. Т. 3. С. 500), — наделял своего героя неподдельной дет-ской наивностью, порождавшей, в сочетании с его более чем со-лидным возрастом и саном, комич-ный эффект. Брандес же усматри-вал в этом персонаже образ власт-ного, самодовольного и лицемер-ного представителя церкви и по-тому, в отличие от большинства рецензентов, сурово порицал акте-ра, находя в созданной им фигуре неуместное женоподобие и даже водевильность, которую назвал «духовной порчей Королевского театра» (см.: Brandes E. Henrik Ib-sen: Gengangere (1922) // Brandes E. Om Teater: Anmendelser og Erin-dringer fra henved 50 Aar. S. 119).
42 Brandes E. Ibsen-Opførelser (1928) // Brandes E. Om Teater: Anmendelser og Erindringer fra henved 50 Aar. S. 150–151.
43 Ibidem. S. 151.44 Характеризуя высокий статус
Поульсена в труппе Королевского театра, Брандес отмечал: «Прежде чем он сам не выберет себе роль, остальные актеры не получают назначений» (Brandes E. Emil Poulsen // Brandes E. Dansk Skue-spilkunst: Portrætstudier. Køben-havn, 1880. S. 334).
45 См.: Ibidem. S. 335.46 Пьеса Бьёрнстьерне Бьёрнсо-
на, написанная в 1874 г. и постав-ленная копенгагенским Королев-ским театром в апреле 1875 г.
47 Brandes E. Emil Poulsen // Brandes E. Dansk Skuespilkunst: Portrætstudier. S. 334.
48 Кроме уже указанных Тартю-фа и Дамиса, Поульсен ярко во-площал на сцене Альцеста в молье-ровском «Мизантропе», Арнольфа в «Школе жен», Юпитера в «Ам-фитрионе», а также многих персо-нажей в комедиях Хольберга. Среди освоенных им в 1870-е гг. шекспи-ровских ролей особенно выделя-лись Шейлок, принц Гарри (в «Ген-рихе IV») и Якимо (в «Цимбели-не»), а в 1890-е гг. — Макбет. Между тем его Ромео, наделенно-му нежным и меланхоличным лиризмом, не хватало, по мнению Брандеса, «огня и страсти» (см.: Brandes E. Emil Poulsen // Brandes E.

Театрон [1•2012]
68
Dansk Skuespilkunst: Portrætstud-ier. S. 341) — как и позднее сыгран-ному Гамлету, не ставшему боль-шой творческой удачей артиста. Безусловной вершиной его искус-ства 1870-х гг. считалась роль епископа Николаса в «Борьбе за престол»: в исполнении Поульсена демоническая сила, скрытая во внешне немощной и тщедушной фигуре епископа, проявлялась так мощно и достигала такой почти гипнотической неотразимости, что Брандес без малейших оговорок называл игру актера «гениальной» (Ibidem. S. 342). Роли в «современ-ных драмах» Ибсена стали новой и наиболее содержательной стра-ницей в творческой биографии ак-тера: в период между 1877 и 1897 гг. Поульсен сыграл (кроме роли Хель-мера) консула Берника, доктора Стокмана, Ялмара Экдала, доктора Вангеля, Эйлерта Лёвборга, Хал-вара Сольнеса, Альфреда Алмерса и Йуна Габриэля Боркмана.
49 См.: Brandes E. Emil Poulsen // Brandes E. Dansk Skuespilkunst: Portrætstudier. S. 350.
50 Герои лирических музыкаль-ных драм «Бертран де Борн» Эрнста фон дер Реке (премьера состоялась в Королевском театре 7 января 1873 г.) и «Амвросий» Кристиана Мольбека (премьера состоялась также в Королевском театре 4 мая 1878 г.).
51 Brandes E. Emil Poulsen // Brandes E. Dansk Skuespilkunst: Portrætstudier. S. 334–335.
52 Например: «Я никоим обра-зом не могу скомпрометировать какую-либо партию, так как не принадлежу ни к какой, — писал Ибсен в январе 1882 г. норвежско-му историку литературы и литера-турному критику Улафу Скавла-ну. — Я хочу оставаться одиноким застрельщиком на форпостах и действовать вполне на свой страх» (Ибсен Г. Собрание сочинений. Т. 4. С. 713–714).
53 Неприятие Ибсеном творче-ства и эстетической программы Эмиля Золя в этом смысле очень показательно (см.: Meyer M. Henrik Ibsen: En biografi. S. 493–494).
54 До сих пор продолжающиеся попытки представить развитие
творчества зрелого Ибсена как движение «от новаторства „соци-альной“ новой драмы к символист-ской трагедии» являются, по меньшей мере, спорными (напри-мер, см.: Максимов В. И. Трагиче-ская форма западноевропейской символистской драмы // Театрон. 2011. № 1 (7). С. 3–8). В первую очередь потому, что так называе-мый ибсеновский «символизм», имеющий совершенно особое про-исхождение, никак не укладывает-ся в рамки символистской эстети-ки (в первую очередь театральной) и не отделим от разработки драма-тургом принципов современной трагедии уже в «Кукольном доме» и «Привидениях», содержание ко-торых далеко не сводится к соци-аль но-критической проблематике. Впрочем, тема «Ибсен и симво-лизм» требует отдельного и очень подробного разговора, и мы с удо-вольствием резервируем ее для бу-дущей специальной статьи. Здесь же ограничимся кратким замеча-нием, что пренебрежительное от-ношение норвежского драматурга к Метерлинку носило вовсе не случайный, но сущностный, так сказать, характер (см.: Банг Г. Вос-поминания о Генрике Ибсене // Судья и строитель: Писатели Рос-сии и Запада о Генрике Ибсене. С. 234; Meyer M. Henrik Ibsen: En biografi. S. 706).
55 Подробно о религиозных воз-зрениях Ибсена и их преломлении в творчестве драматурга см.: Юрь-ев А. А. Между Светом и Тьмой (Мистериальная традиция в твор-честве Хенрика Ибсена) // Ибсен Х. Кесарь и Галилеянин. Росмерс-хольм. СПб., 2006. С. 517–648. Попутно обратим внимание на то, что Георг и Эдвард Брандесы, про-шедшие выучку у европейского позитивизма, старались в своих публикациях не порицать драма-турга за неизжитую им религиоз-ность и не сосредоточивать на ней внимание своих читателей, хотя в частной переписке порой допу-скали меткие замечания по этому вопросу. «В духовном отношении он очень зависим от Кьеркегора и все еще сильно проникнут тео-логией», — такую характеристику
дал Ибсену Георг Брандес в сво-ем письме к Фридриху Ницше от 7 марта 1888 г. (цит. по: Ницше Ф. Письма. М., 2007. С. 303).
56 Bøgh E. Henrik Ibsen: «Et Duk-kehjem» // Bøgh E. Udvalgte Feuil-letoner («Dit og Dat») fra 1879. S. 262.
57 Brandes E. Emil Poulsen // Brandes E. Dansk Skuespilkunst: Portrætstudier. S. 338.
58 Ибсен Г. Собрание сочинений. Т. 3. С. 452.
59 Brandes E. Henrik Ibsens «Et Dukkehjem» paa det kgl. Theater // Ude og Hjemme. 1880. № 118. 4. Januar. S. 152–153.
60 Ibidem. S. 152. Весь этот пас-саж Брандес почти дословно вос-произвел в своем этюде об искус-стве Поульсена, добавив, что в фи-нальном диалоге с Норой актер придавал своей речи «явно нервоз-ную стремительность» (см. : Brandes E. Emil Poulsen // Brandes E. Dansk Skuespilkunst: Portræt-studier. S. 351). В своих более позд-них воспоминаниях он к ранее сказанному добавил: «Каждая интонация выдавала понимание, а ирония над этим персонажем была высочайшего класса» (Bran-des E. Ibsen-Opførelser (1928) // Brandes E. Om Teater: Anmendelser og Erindringer fra henved 50 Aar. S. 151).
61 Можно предположить, что здесь подразумевается в первую очередь похвала, адресованная актеру писателем Вильхельмом Топсё, который так охарактеризо-вал Хельмера в трактовке Поуль-сена: «полуобразованный, полу-привлекательный, слегка высоко-мерный и с заурядными умствен-ными спосбностями» (цит. по: Marker F., Marker L.-L. The First Nora: Notes on the World Premiere of A Doll’s House // Contemporary Approaches to Ibsen. Vol. 2. P. 93).
62 Манеры (фр.).63 Bang H. Et Dukkehjem // Bang
H. Realisme og Realister. Kritiske Studier og Udkast. København, 2001. S. 361–362. Скорее всего, трактовка Бангом образа Хельме-ра наиболее соответствовала ибсе-новскому видению этого персона-жа. В сохранившемся письме к ди-рекции Королевского драматиче-

Театр и драматургия
ского театра в Стокгольме, гото-вившей постановку «Кукольного дома» (премьера состоялась 8 ян-варя 1880 г.), драматург рекомен-довал поручить роль Хельмера Густаву Фредриксону именно по-тому, что этому актеру была при-суща «элегантная и привлекатель-ная легкость» (см.: Ibsen H. Brev 1845–1905: Ny samling. Oslo; Ber-gen; Tromsø, 1979. [Bd.] I: Brevtek-sten. S. 241 (Ibsenårbok 1979)).
64 Рассматривая тему эгоизма как центральную в творчестве норвежского драматурга, Банг от-мечал: «Из его (Ибсена. — А. Ю.) книг… с большей или меньшей очевидностью и откровенностью вырастает один и тот же вопрос, который он все снова и снова ста-вит перед нами, — что не есть ис-тина? И тут в нем проступает не-
что напоминающее Сократа; а по-скольку он остается под влиянием Киркегора, его указания на ложь неизменно влекут за собою каж-дый раз заново повторяющуюся смертную казнь эгоиста» (Bang H. Et Dukkehjem // Bang H. Realisme og Realister. Kritiske Studier og Udkast. S. 356). Никак нельзя не обратить внимания на то, что ука-зание Банга на союз эстетизма и жестокости, несомненно, восходит к киркегоровской критике «эсте-тической» экзистенции и, в част-ности, к анализу датским мысли-телем психологии Нерона (см.: Кьеркегор С. Или — или. Фрагмент жизни: В 2 ч. СПб., 2011. С. 660–667). Стоит, пожалуй, вспомнить и относящиеся не к одной лишь философии Киркегора глубокие размышления П. П. Гайденко об
«обратной стороне» эстетизма: Гайденко П. П. Трагедия эстетизма: О миросозерцании Сёрена Кирке-гора // Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онто-логия ХХ века. М., 1997. С. 118–137, 161–187.
65 «Существует какая-то бли-зость, какая-то несомненная связь между эстетизмом и варварством, над которой всем нам не мешало бы поразмыслить» (Манн Т. Фило-софия Ницше в свете нашего опыта (1947) // Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 385). При этом Манн ставит проблему именно так, как ставил ее в XIX веке автор «Или — или»: «Противоречие в действительности существует не между жизнью и этикой, но между этикой и эстетикой» (Там же. С. 373).

70
1. Фамусов — Игорь ИльинскийВозвращаясь к формуле Аполлона Григо-
рьева «комедия о хамстве», посмотрим, как и в чем Мейерхольд совпадал с ней в «Горе уму».
«Я считаю, — говорил он, — что совершен-но верно показываются у нас Фамусов и Репе-тилов с этой точки зрения. Фамусов — хам с Лизой, хам с Молчалиным, хам с Софьей»1. При такой подаче хамства Фамусова может по-казаться, что оно, как и в трактовке Вл. И. Не-ми ровича-Данченко 1906 года, ограничивалось пределами третирования домочадцев. В Худо-жественном театре хотели, чтоб и Фамусов, и Чацкий, и все остальные персонажи «Горя от ума» предстали как живые лица2, стремясь смягчить «грубость природы Фамусова и нра-вов эпохи» юмором и обезоруживающей «наи-вностью»3 хозяина дома. И этого, по описанию Л. Я. Гуревич, неизменно чуткой к режиссер-ским заданиям Художественного театра, уда-лось достичь даже сверх ожидаемого. «Наивное хамство, живущее в этом барине, минутами выглядывает из него… с циническим сладостра-стием. Это не привитое жизнью, привычками, ложными понятиями низкопоклонство, — это неисправимое мещанство души, прирожденная человеческая пошлость»4.
Мейерхольд, конечно, знал спектакль Ху-дожественного театра. По-видимому, был зна-ком и с вышедшей в 1923 году монографией «„Горе от ума“ в постановке Московского Ху-дожественного театра». Предварительные на-броски к экспликации комедии Грибоедова, которую он собирался поставить в 1924 году в Театре Революции, начинались словами: «Два отправных пункта: письмо Пушкина и <статья> Немировича-Данченко»5. Ссылаясь в дальней-шем на статью, опубликованную в 1910 году в «Вестнике Европы»6, Мейерхольд, скорее всего, пользовался ее перепечаткой в моно-графии 1923 года.
Если с Пушкиным (известное письмо А. А. Бестужеву о «Горе от ума»7) Мейерхольду непременно надо было «договориться» (в на-бросках 1924 года и потом в работе над «Горем от ума» в своем театре он об этом не забыва-ет) — авторитет Пушкина на всех этапах ре-жиссерской биографии Мейерхольда был для него непререкаемым (он мог бы повторить вслед за Ап. Григорьевым «Пушкин — наше всё»8), то концепцию Вл. И. Немировича-Данченко он отвергал с порога. Его не устраивал и благо-душный «домашний» тон в обрисовке персона-жей политической комедии, и, главное, ее трактовка — «если бы Немирович-Данченко был прав, то комедия называлась бы „Горе от любви“, а не „Горе от ума“»9. Хотя переклички спектакля ТИМа с постановкой Художествен-ного театра, которую Мейерхольд приписывал Станиславскому10, были неизбежны — их не могло не быть с первой режиссерской интер-претацией классической пьесы, — в этом глав-ном пункте Мейерхольд неизменно МХТ противостоял. В доме Фамусова Чацкого Ху-дожественного театра удерживает любовь к Софье, Чацкого ТИМа — Фамусов. Чацкий в трактовке Мейерхольда в любую минуту был готов прекратить «метать бисер перед свинья-ми»11, но Фамусов его не «отпускал». Избрав Чацкого мишенью своих агрессивных наскоков, своих атакующих эскапад, он держал его под прицелом, вплоть до финального семейного скандала, когда ему уже было не до Чацкого.
На репетициях «Горе уму» Мейерхольд сразу предложил перестать смотреть на роль Фамусова как «подсобную» для обличений Чацкого. «Как бы великолепно ни играл Фаму-сова Ленский, казалось: с кем же это борется Чацкий? <…> Взять бы и уйти ему из этого дома. Все дело в том, что Фамусов не показывал себя активным началом, антитезой к Чацкому, он всегда был началом пассивным»12. Это верно. Выключенный (в отличие от Чацкого) из ре-жиссерского сюжета в спектакле МХТ, он
Г. В. Титова
«Горе уму», или «Комедия о хамстве»*
* Продолжение. Начало см.: Театрон. 2011. № 2 (8). С. 59–70.

История спектакля
71
оставался (как это было в актерском театре) так или иначе истолкованной ролью. «В со-единении барственности с неугомонностью и вспыльчивостью вся трудность роли»13, — писал Вл. И. Немирович-Данченко сорежис-серу спектакля В. В. Лужскому и, примеряя ее на Станиславского, перебирал предшествую-щих исполнителей — В. Н. Давыдова, А. П. Лен-ского, И. В. Самарина, которого в конце концов взял за образец — «лучше всех», «ближе всех»14. Мейерхольд тоже припоминал А. П. Ленского, но не с тем, чтобы собрать своего Фамусова из выдвинутых актером свойств персонажа, а в доказательство, что и у Ленского роль при-обретала «отдельность», замкнутость на актере, характерные для прежних трактовок. Режиссер предлагал принципиально иной подход к Фа-мусову. «Он — ось, которая вертит весь дом. Завернет, как пропеллер, — грубит, кричит, наскакивает, сметет всех с лица земли, а эти путаются со своим лирико-драматическим на-чалом. Тогда в пьесе больше напора. Важно, чтобы Фамусова играл молодой актер, с боль-шой молодой энергией, а то Фамусов всегда вякал, мякал и путался в тенетах пьесы непо-нятно зачем»15.
«Мне кажется, — продолжал Мейер-хольд, — что у Фамусова должна быть насту-пательная энергия. Как только он получает ту или иную реплику, он тотчас же вскипает»16. «Фамусов должен быть соткан из курсивов…»17. Надо «сделать так, что вдруг какое-то слово выплескивается из ровности»18. Это «вски-пание», не забывает режиссер, давал иногда А. П. Ленский, но шло оно у него от темпера-мента, от манеры игры и подавалось «в обо-лочке какого-то добродушия»19, а надо, чтобы у Фамусова была «своя платформа», чтоб у него было «волевое напряжение», потому что «самая крепкая и активная нота в пьесе должна быть в руках Фамусова»20. Не «сладострастный ста-ричок», а «с волей насильника», и не оттого, что «нам нравится такой эротический план», а по-тому, что Фамусов способен «на всяческого рода насилие над волей другого человека»21. А значит, пантомимическая сцена с Лизой бу-дет построена как «сцена ловли с препятствия-ми», чтобы производить «гнусное впечатле-ние»22.
Фамусов должен быть омоложен — «мы должны поверить, что ему тридцать лет», или по крайней мере увидеть в его агрессивном
«вышвыривании» Чацкого «человека, не имею-щего возраста», а не «обрюзгшего старичка с пу -зом, который щипнул Лизаньку, читает нотации Молчалину и произносит какой-то монолог, вынимая табакерку и понюхивая табак…»23. «Он должен напоминать по типу Тьера, — не-ожиданно восклицал Мейерхольд. — Тьер всегда поражал изысканностью, как носил очки, причесывался, как он складывал вкусно губки… и в то же время он расстреливал по 1000 человек в день»24. Аналогия ошарашивающая, но на-глядно демонстрирующая, что имел в виду режиссер, толкуя в таком роде роль Фамусова.
«Фамусов в последнем акте — разъярен-ный зверь25, — говорил Мейерхольд за две не-дели до премьеры, отрабатывая эпизод „Лест-ница“ (10–15 явления комедии). — <…> Выбегает, хватает Лизу за ворот. Истязает. Можно за косы, ногой в зад, чтоб кубарем ска-тилась. Каждый новый запал — из клетки вы-пустили тигра. Все неподвижны — один разъ-яренный зверь мечется по сцене, без туфли на одной ноге. Сцена страшная. <…> Лизу тащите по всей лестнице на авансцену. Мизансцены — стоверстные.
<…>Фамусов: „Свечей побольше, фонарей!“ —
выстрел.<…>„За грош продать меня готовы“ — выстрел.Бежит по лестнице и кричит, постепенно
разгоняясь на самую высоту.Каждой тираде [Фамусова] к кому-нибудь
будет предшествовать пауза, дающая отдых. Ряд моноложков, кончающихся: „Там будет горе горевать… сидеть за святцами…“.
Весь секрет в концовках. Отдых — накал — концовка (наглядный биомеханический ка-нон. — Г. Т.). Не один монолог, а пять — это произведет колоссальное впечатление. Если вырывать, то вырывать с корнем. Играть бес-компромиссность, величайшее хамство и же-стокость. Это резюме вашей роли (актеру театра им. Евг. Вахтангова О. Н. Басову, репетировав-шему в этот день. — Г. Т.).
Фамусов уйдет в фанфары.Чацкий уйдет в ночь»26.Роль Фамусова (как и некоторые другие
роли «Горя от ума») сочинялась Мейерхольдом в расчете на конкретного актера. «Я очень буду просить тов. Ильинского обратить внимание на то обстоятельство, что роль Фамусова будет

Театрон [1•2012]
72
построена именно применительно к его дан-ным. Это относится также ко всем ролям, так как у нас вопрос о дублере отпадает. Мы трак-туем роль применительно к данным физиоло-гическим особенностям того актера, которого мы на данную роль ставим»27.
Какие же «физиологические особенности» 26-летнего актера могли иметься в виду? Ведь он не дотягивал даже до «тридцатилетнего» Фамусова Мейерхольда!
В знаменитой формуле «Иль—ба—зай» А. А. Гвоздев определил «долю» Ильинского как «стремительность и гибкость»28. И еще. В «Великодушном рогоносце», вызвавшем к жизни эту формулу, проявилось такое свой-ство темперамента актера, как агрессивный напор, в случае Брюно — напор грубой физиче-ской силы в сферу герою неподвластную — стремление подчинить себе в Стелле то, чем ему не дано обладать. Этот напор по ходу дей-ствия истреблял Брюно — поэта, превращая его в механического робота, двойника Эстрюго. Агрессивный натиск организовывал и «шутки, свойственные театру» в роли Аркашки Счаст-ливцева. «Аркашка сотрясает театральный гром и тыкает вилами в Восмибратова»29, — недо-вольно комментировал А. Р. Кугель. Таким образом, понять, что имел в виду Мейерхольд, говоря о «физиологических особенностях» первого актера своего театра, труда не пред-ставляет. Ильинский потому и был Первым, что адекватно соответствовал присущей всем партитурам режиссера 1920-х годов «напря-женности действия» («в этом наше время», говорил Мейерхольд ученикам, «и нет возвра-та к старому»30).
Ильинский обладал безупречным чув-ством ритма, способностью темперировать действие, нагнетая его «быстроту и стремитель-ность»31, переходя от лирики к клоунаде. Сме-ло раскачивая действие от буффонады к траге-дии, он виртуозно сочетал условность («театр условен был, есть и всегда будет»32) с натура-листической раскраской роли, «натурализмом приема»33, идеально соответствуя гротесковой методологии Мастера. И здесь уже следует говорить не о физиологических данных актера Ильинского, а о физиологической акцентиров-ке условного рисунка роли в театре Мейерхоль-да. В определении гротеска, данном в «Амплуа актера», подчеркивалась «материально обыден-ная чувственность формы» при «умышленной
утрировке и перестройке (искажении)», неиз-бежной во «внеприродной комбинации гро-теска»34. Эта «материальная» составляющая биомеханического мастерства позволяла Ильин-скому передавать «иллюзорность, ссылающую-ся в доказательство своего бытия на испыты-ваемую физическую тошноту», «призрачность и фиктивность, страдающую… животом»35 (Брюно в «Великодушном рогоносце», пред-варявшем метафизику драмы абсурда), и «со-трясать театральный гром», тыкая вилами в Во-смибратова (Аркадий Счастливцев в «новом площадном театре» «Леса»36, которому, как и старому, были присущи грубость и физио-логичность).
Современное «искусство сценической быстроты»37 сопрягалось у Ильинского с ма-ской старого театра — Самуил Марголин назвал его Брюно мольеровским Сганарелем, а Сгана-реля, в свою очередь, «вечным Арлекином теа-тра»: «Сганарель у Ильинского в крови, как Мольер у Мейерхольда в существе его»38. Ар-лекином считал Аркашку Ильинского А. А. Гвоз-дев: «Немая игра Ильинского неотразимо увлекательна. В нем оживает во всей красе традиция народных комиков, ярмарочного балагана, актеров итальянской комедии. Перед нами первоклассный буффон, современный, динамичный, а главное, народный до конца»39. Мейерхольд был уверен, что Ильинский может играть всё40, а потому не сомневался, что, как только его Фамусов выйдет на сцену, он «за-полнит ее собой на все сто процентов»41. Но этого не случилось. При переходе с маски Сга-нареля на амплуа Панталоне произошел сбой — маска потащила за собой присущие ей лацци, амплуа утратило действенный энерге-тический посыл. Мейерхольд этого никак не предполагал. Согласно установке «Амплуа актера», Фамусов в соседстве с королем Ли-ром, Шейлоком и Скупым рыцарем находился в амплуа Панталоне («опекун»42) c такими сценическими функциями: «Активное прило-жение лично установленных норм поведения к обстановке, созданной вне его воли»43. А зна-чит, действенная функция Фамусова соответ-ствовала его роли в «комедии о хамстве». Кстати, Мейерхольд считал и Фамусова Ста-ниславского задетым этим амплуа: «Он явил… пышность Панталоне в „комедии характеров“, какою хотел показать „Горе от ума“ Москов-ский Художественный театр…»44.

История спектакля
73
Такой Фамусов смотрится среди других описаний Станиславского в этой роли впол-не неожиданно. Кажется, что «пышный» убор старой маски скорее подходит Фамусо-ву А. П. Ленского или даже В. Н. Давыдову, в игре которых современный исследователь находит оживление давней театральной маски посрамленного комического отца, говоря, что оба актера, несмотря на различие своих Фамусовых, воспринимали роль «как одну из вершин мирового комедийного репертуара»45. Но подключение Фамусова Станиславского к этой традиции поддержала в своих мемуарах В. П. Веригина: «Вспоминая „Горе от ума“, пре-жде всего вижу перед собой Фамусова — Ста-ниславского. Тут было поразительное соедине-ние театральной маски, поданной чрезвычайно тонко, едва уловимо, с редкой жизненностью фигуры московского сановника. На этом спек-такле глаз зрителя был как бы вооружен особым волшебным стеклышком, через которое он видел порой Панталоне (персонаж итальянской комедии масок) в лице совершенно живого, лишенного театральности Фамусова»46. Конеч-но, ученицу Мейерхольда легко заподозрить в том, что она не «вспомнила», а сочинила Фа-мусова–Станиславского в духе Мастера (ее мемуары опубликованы спустя 9 лет после вы-хода в свет двухтомника статей Мейерхольда, в том числе «Одиночества Станиславского»). К тому же не вполне ясно, какого года Фаму-сова–Станиславского — 1906-го или 1914-го (возобновление) — видела актриса. Разговор о нем возникает в ее рассказе о 1910–1912 годах, когда мемуаристке «удалось не раз побывать в Художественном театре». «Горе от ума» тогда вряд ли сохранилось в репертуаре — не случай-но понадобилось возобновление. Но это время торжества комедийного дара Станиславского — не зря современники в таких его ролях, как граф Любин («Провинциалка»), Арган («Мнимый больной»), кавалер ди Рипафратта («Хозяйка гостиницы»), созданных по правилам фор-мировавшейся «системы», находили неувя-дающий дух театральной комики, присущий и возобновленному Фамусову, ставшему, по словам рецензента, «легче, буффоннее» — «те-перь это… высокий образец комедийной игры»47.
Но возможен был и другой ход к Панталоне.Стремление к преувеличенной характер-
ности в рамках классицистской комедии воз-вращало роль к маске, но не в действенной ее
функции, а в орнаментальном антураже. «Ры-баков (в спектакле Малого театра 1911 года. — Г. Т.) не был московским барином. Но то, что ему удалось очень хорошо, — это старческая, несколько бабья раздражительность»48.
Нечто подобное произошло и с Фамусо-вым–Ильинским. Критики, будто сговорившись, не без злорадства на все лады живописали его «Панталошку» — «буффонного старичишку с панталончиками из-под халата»49. «Ильин-ский явно мельчит своего Фамусова: из сочной, яркой, художественно-символической фигуры барина или крупного чиновника, столь харак-терной для всего московского быта 20-х годов, он превращает его в жалкого старикашку из са-буровского фарса, блудливого селадона с ужим-ками старика Карамазова и одновременно Ар-кашки; неприличные манеры — штучки, которыми он увеселяет публику, — чешет себя пятерней по животу, чешет ногой другую ногу, приседает, вдруг дает гаерские выкрики совер-шенно опереточного стиля — таков мейерхоль-довский Фамусов»50. (И хотя, сам того не желая, Д. Л. Тальников дает описание гротесковой манеры актера, Мейерхольд не этого добивался от Ильинского–Фамусова.) Вот столь же не-доброжелательное академическое суждение Н. К. Пиксанова: «Он [Фамусов] призван проявить „прошедшего житья подлейшие чер-ты“, создать символ старого барства. Но перед нами сгорбленный старичок, суетливый, кри-кливый, раздерганный — что-то мелкое, идущее от традиции фарсовых дядюшек и папаш. Не-обычайно характерная деталь: он, совсем по-водевильному, запускает в Чацкого подушками (как Арган Станиславского в Туанет! — Г. Т.). Неужели этот кретин может символизировать то барство, которое столетиями в железных когтях удерживало русский народ? Неужели это с ним десятилетиями боролись многие по-коления русских революционеров?»51 — воз-мущался академик.
В этих разносах достоверным представля-ется одно — либо Ильинский пренебрег запла-нированным режиссером «омоложением» Фамусова, либо Мейерхольд решил от него отказаться. Не могли же критики, чем бы они ни руководствовались в своих филиппиках, единодушно заявлять — «буффонный стари-чишка», «жалкий старикашка», «сгорбленный старичок»! Даже А. Л. Слонимский, автор едва ли не лучшей, бесспорно положительной

Театрон [1•2012]
74
рецензии, говорит о Фамусове–Ильинском в том же духе: «Ошарашенный Фамусов, сгорбившись и шаркая ногами, смущенно плетется (курсив мой. — Г. Т.) вокруг бильярда, сопровождаемый Скалозубом»52. Как же могло случиться, что трактовка, от которой, как говорилось, сразу решили отказаться — «обрюзгший старичок с пузом» (правда, не обрюзгший и без пуза), — вышла на первый план? Причина одна. Наи-грывая возраст и не отказываясь от привычной «натуралистической» раскраски собственной актерской маски, Ильинский скатывался от Опекуна «амплуа актера» к просто опекуну, вроде доктора Бартоло.
Мейерхольда вряд ли смущало, что в игре Ильинского «моментами… кажется, что это Аркашке Счастливцеву поручили роль в гри-боедовской комедии»53. Его, в отличие от оппо-нентов («Игорь Ильинский в роли Фамусова устраивает попурри из <Михаила> Чехова, Москвина и своих выступлений в киноро-лях»54), не мог смутить никакой набор масок и ассоциаций в роли. Режиссерские партитуры Мейерхольда тоже были в определенном смыс-ле «попурри» на темы собственного творчества и мирового театра. В способности к самостоя-тельному созданию таких «попурри» усматри-валось достоинство актера. «…Мы, учившиеся на примерах игры итальянской комедии масок, говорим, что мы должны обязательно восста-новить в современности, и даже не восстано-вить, а просто построить в современной драма-тургии свои маски. <…> Не нужно бояться повторить себя в этой маске, также не нужно бояться Ильинскому, если он повторяет прие-мы „Великодушного рогоносца“, нужно брать вообще все то богатство сцены, которое есть, если это можно использовать как штрих для обострения и толкования нового образа, а, в сущ-ности говоря, старого образа»55. Но с другой стороны — «нельзя маски путать, нельзя, чтобы первый цанни превратился во второго цанни. Это вроде того, если бы Чацкий ходил как Рас-плюев»56.
Утрата маской Панталоне действенной функции, означавшей в трактовке Фамусова агрессивный напор торжествующего хамства, устроить Мейерхольда не могла. Вероятно, поэтому режиссер, категорически отрицавший в своем театре дублерство, перед премьерой им все-таки воспользовался и стал репетировать (в присутствии Ильинского57) с О. Н. Басовым
и П. И. Старковским. Вахтанговца Басова с наигранным энтузиазмом желали увидеть насмехавшиеся над Ильинским противники Мейерхольда: «Может быть, Басов даст что-нибудь более цельное даже на основе, задан-ной Мейерхольдом»58. Басов играл Фамусова, но очень недолго, отзывов о его исполнении не появилось, роль вернулась к Ильинскому, игравшему ее до тех пор, пока шла первая сце-ническая редакция «Горя уму». Во второй (1935) — роль Фамусова поступила в едино-личное пользование П. И. Старковского.
Показательно, что сторонники спектакля предпочитали говорить о Фамусове–Ильин-ском вскользь или просто его не замечать. Только П. А. Марков прямо объявил Фамусо-ва–Ильинского проигранным Мейерхольдом: «Не ясна линия Фамусова, который в исполне-нии Ильинского не приобретает убедительно-сти и силы; его характеристика восходит к теа-тральной традиции Панталоне и лишена глубоких психологических и общественных корней, которыми отмечен строгий рисунок мейерхольдовского спектакля»59. Сформули-ровано с характерной для Маркова определен-ностью, но убедительно не вполне. «Строгий рисунок» «Горя уму» возникает у критика как некая индульгенция спектаклю, предваритель-но проанализированному с позиции «многих сомнений и возражений»60. Это раз. И непо-нятно, о каких «глубоких психологических и общественных корнях» режиссерского ис-толкования можно говорить вне «комедии о хамстве», сосредоточенной в первую очередь на линии Фамусова. Ведь «горе уму» исходило от Фамусова.
Дабы поддержать репутацию Мейерхоль-да, который в 1970-е годы все еще в этом нуж-дался, автор вступительной статьи к моногра-фии «„Горе от ума“ на русской и советской сцене» О. М. Фельдман написал, что «в сло-жившейся расстановке сил Фамусов оказался фигурой необязательной»61. Когда спустя не-которое время Фельдман взялся за фундамен-тальное изучение и публикацию наследия Мейерхольда, то первая же из вышедших под его патронатом книг — «Мейерхольд репетиру-ет» — опровергла прежнюю уклончивую фор-мулу: Фамусов в мейерхольдовской расстанов-ке сил предполагался фигурой центральной.
Сам Ильинский в мемуарах, опубликован-ных в 1961 году, рассказывает о своей работе

История спектакля
75
над ролью Фамусова обстоятельно, объясняя неудачу «по Станиславскому» и перекладывая ответственность за нее на Мейерхольда. «По целому ряду причин мне не хотелось играть Фамусова. Мне уже и тогда казалось, что для этой роли нужна естественная фактура актера, которую невозможно искусственно создавать, что подобную роль трудно играть, основываясь на характерных приемах. Мне казалось, что я еще молод для Фамусова»62. В роли Фамусо-ва, продолжал актер, «за неимением к ней от-ношения, я больше, чем в каких-либо других, слепо следовал»63 за показами Мейерхольда. Но играть «по-стариковски» ему, в отличие от Мейерхольда, не прибегавшего в своих показах «к характерным приемам», было несподручно: «Я в двадцать шесть лет должен был стать со-рока или пятидесятилетним Фамусовым, что было труднее, чем стать шестидесяти или се-мидесятилетним»64. Это, конечно, верно, как убедителен и пример с ролью паши Селима, которую 17-летний Ильинский с триумфом играл в опере Моцарта «Похищение из сераля» в постановке Ф. Ф. Комиссаржевского. Но верно опять-таки «по Станиславскому». Мей-ерхольд, предназначая роль Фамусова Ильин-скому, думал не о возрасте актера, а о молодой энергетике его актерской маски, независимой от «возраста» роли. «Омоложение» роли пред-полагалось как раз с ее помощью. Он не соби-рался представлять «тридцатилетнего» Фаму-сова буквально; скорее, опасался, как бы молодой Ильинский не свернул в эту сторону. Еще до начала репетиций с Ильинским он пи-сал М. М. Кореневу (1 августа 1927 года): «Не надо было Ильинскому говорить о „молодости“ Фамусова. Заманить-то вы его заманили этим (курсив мой. — Г. Т.) в состав участвующих в „Горе от ума“, а как мы будем потом выкру-чиваться, когда будем давать проект грима. Сорок пять — пятьдесят (лет) обязательно надо будет выразить…»65.
Отрицая «эксцентрические, буффонные приемы» показов Мейерхольда, Ильинский считал себя без вины виноватым — «иначе и нельзя было поступать при той творческой диктатуре, которая была у Мейерхольда»66. Дальше больше. Актер «вспоминает», что «ме-тод работы Мейерхольда с актером не развивал его», что он стал «тяготиться» диктатом режис-сера, что ему «хотелось большей самостоятель-ности, хотелось быть большим творцом роли,
а не только хорошим исполнителем заданий Мейерхольда», с которыми он «не был согласен тем больше, чем они дальше уходили от логики и реализма»67.
Как видим, Ильинский загодя «мотивиру-ет» свой разрыв с Мейерхольдом — в 1935 году он покинул ТИМ за три года до его закрытия. А «диктатор» Мейерхольд в том же 1935 году говорил: «Такой совершенно замечательный актер, как Ильинский, — мне всегда грустно, что его искусство может исчезнуть. У него должен быть свой подмастерье, им самим вы-бранный. Мы не можем подсунуть ему ученика, он должен выбрать его сам и должен растить своего „сына“ и будет поколение Игорей Ильинских»68. Эта удивительная идея — на-глядный пример живущей в сознании режис-сера неиссякаемой силы маски, ее, по слову Д. Стрелера, «выразительных возможностей»69. Стрелер, рассказывая, как знаменитый Арлекин ХХ века Марчелло Моретти передавал свою маску «подмастерью» Ферруччо Солери, не ведая того, наглядно демонстрирует идею Мей-ерхольда: «Эта простая, будничная работа несла в себе всю тайну театра! <…> Каким-то чудом в наши дни вдруг „возродился“ процесс, типич-ный для эпохи комедии дель арте, процесс обу-чения ремеслу. Ремеслу, секреты которого ко-медиант передает товарищу, „обогащая“ его своим опытом. <…> Старый и новый Арлекин, оба в комбинезонах, выходили на полуосвещен-ную сцену, и репетиция начиналась. Помню, что репетировали они вполголоса, без всякого метода, на основе одного только практического опыта: пояснительные слова, жесты, какие-то обрывки чисто „личной“ теории. Это было все равно что присутствовать на ритуале, не зная ни смысла его, ни языка»70.
Так что кому-кому, а не Ильинскому было говорить о режиссерском «диктате» Мейер-хольда. Он покидал ТИМ, когда хотел, работал в других театрах, много снимался в кино — и Мейерхольду, а не ему приходилось с этим смиряться. Его положение в ТИМе вполне можно назвать привилегированным. Мейер-хольд вплоть до окончательного ухода Ильин-ского из ТИМа находился в зависимости от собственных планов актера. «Возможно, мы покажем (в Берлине, в 1930 году. — Г. Т.) „Ве-ликодушного рогоносца“ Кроммелинка, там в свое время главную роль исполнял великий московский комик Ильинский. Через несколько

Театрон [1•2012]
76
дней он приедет в Берлин (в отличие от уже находившейся там труппы ТИМа! — Г. Т.) и сы-грает здесь эту роль»71.
Нужно непременно оговорить, что в целом мемуары ведущего актера ТИМа впервые (он начал их публикацию в журнале «Театр» в 1958 году) вводили тогдашнего читателя в творче-скую лабораторию Мастера, приоткрывали дверь в художественный мир Мейерхольда. После сомнительных достоинств попытки теа-троведческой реабилитации Мейерхольда, принадлежавшей Б. И. Ростоцкому72 (который хоть и каялся в прежних грехах73, но по-преж-нему был больше всего озабочен тем, как бы не случилось «односторонне положительное» от-ношение к наследию Мейерхольда, как бы не скатиться «к замалчиванию формалистиче-ских тенденций»74 в его творчестве), мемуары Ильинского были живым словом о себе, об эпохах советского театра и кино, о Мейерхоль-де. Ильинский первый выступил в защиту биомеханики, и хотя делал это с понятными по тем временам оговорками — непременной оглядкой на систему Станиславского, — слово было сказано.
Но на страницах, посвященных «Горю уму», достоверным видится одно — непреходя-щее стремление объяснить и оправдать чуть ли не единственный «прокол» в своей блестящей актерской биографии. Не случайно актер хотел реабилитировать себя в роли Фамусова. При-знавая в конце концов, что и «эта работа с Мейерхольдом» принесла ему «большую пользу», актер писал: «А если бы мне еще раз пришлось сыграть роль Фамусова, то умудрен-ный жизненным опытом и наблюдениями, что так важно для органики этой роли, привнеся в нее много своего и нового, я бы вспомнил многие мейерхольдовские решения, которые теперь были бы, надеюсь, воплощены удач-нее»75.
Через два года долгосрочный проект Иль-инского осуществился. Он сыграл Фамусова в спектакле Малого театра, поставленном Ев-гением Симоновым. Но того, чего он добивался от этой роли, он так и не достиг. Соединить мейерхольдовский подход с характерностью «выскочки, мелкого обывателя, которого счаст-ливый случай превратил в богатого и чиновно-го московского барина»76, не удалось. Многие моменты роли напоминали о Фамусове «Горя уму», хотя Б. В. Алперс по каким-то причинам
об этом не упоминает. Окончательно разрушил все надежды критика на глубину и серьез-ность режиссерского подхода придуманный Е. Р. Симоновым «вставной номер с выходом и танцем Фамусова»: «Танец плешивого тол-стого старичка на согнутых ногах с комичными приседаниями и нелепым коленопреклонением перед дамой переводит Фамусова в разряд во-девильных персонажей. Еще резче эта тенден-ция сказывается в финальном акте комедии, когда Фамусов — Ильинский в сопровождении многочисленных слуг сбегает по лестнице весь в белом шелковом одеянии, похожем на костюм музыкального эксцентрика, и в довершение этого сходства стреляет в воздух из бутафор-ского пистолета. И вся последующая игра Ильинского с его обмороками, падениями и пла-чущими интонациями развивается в том же направлении»77. Это почти калька критических описаний Фамусова — Ильинского 1928 года!
В спектакле Е. Р. Симонова Ильинский сохранил мейерхольдовский рисунок роли (видимо, отринуть его он не мог «органиче-ски»!), некоторые мизансцены. Это бросалось в глаза потому, что остальные актеры играли по-другому. Но этот абсолютно условный ри-сунок движений был предназначен Мейерхоль-дом для «тридцатилетнего» Фамусова–Сгана-реля. Оказалось, что 60-летнему актеру играть «молодого» Фамусова труднее, чем наоборот. И все же Мейерхольд давал о себе знать, а Ал-перс, не упоминая его имени, как всегда, когда он этого хотел, становился безупречно точен: «На первый взгляд он (Фамусов–Ильин-ский. — Г. Т.) как будто добродушен, но в спо-ре с Чацким в его голосе прорываются злые ноты, позволяющие предполагать, что он может быть опасен для Чацкого и беспощаден к нему в дальнейших событиях грибоедовской коме-дии»78. И за ее пределами — добавил бы Мей-ерхольд.
2. Антре Репетилова«Несмотря на то, — писал Григорьев, — что
Репетилов является только в конце, в сцене разъезда, — он, после Чацкого, вместе с Фаму-совым и Софьей — одно из главных лиц коме-дии»79.
Знакомясь с григорьевской характеристи-кой Репетилова, охваченного, по словам кри-тика, «либеральным азартом, простирающимся до желаний „радикального лекарства“»80, для

История спектакля
77
которого «дело — только слова, слова, слова»81, Мейерхольд подтверждал, что и в ТИМе «вы-смеян российский хам-пустозвон, хам — про-жигатель жизни, хам, профанирующий идеи декабристов»82. Как оказалось, взяв Репетило-ва с Загорецким «вместе», «в ловко скомпоно-ванном дуэте», чтобы и в Загорецком показать «образец российского хамства»83, Мейерхольд и в этом от Григорьева не отступил. Критик, правда, не имел в виду преследовавшую Мей-ерхольда идею двойничества. Но, перечисляя «идеалы» Репетилова из «секретнейшего сою-за» по четвергам — князя Григория, Удушьева Ипполита Маркелыча, Воркулова Евдокима и непоименованного «ночного разбойника, дуэлиста»84, находил, что и у самого Репетило-ва «глаза в крови, лицо горит», что и он «от-петый сорванец, и притом сорванец удалой, в противоположность сорванцу трусливому — Загорецкому»85.
То, что, говоря словами Мейерхольда, «Репетилов и Загорецкий, когда они вместе в последних сценах комедии, — это два сапо-га — пара»86, русская сцена знала и раньше — это написано Грибоедовым. Не случайно первые исполнители Загорецкого и Репетилова обме-нялись ролями: И. И. Сосницкий сначала сы-грал Загорецкого при Репетилове П. А. Кара-тыгина и только через год выступил в роли, ставшей для него коронной. Нечто подобное, но с обратным эффектом, произошло и в ТИМе. Первоначально над ролью Репетилова работал Василий Зайчиков. Но в спектакле он сыграл Загорецкого — Репетилов перешел к Н. В. Си-биряку. Вероятно, Мейерхольд предполагал, что идеальный биомеханический актер Зайчи-ков сыграет и за себя, и за партнера.
Символическую «парность» Репетилова и Загорецкого обнаружил в спектакле Художе-ственного театра 1906 года Максимилиан Во-лошин: «Сцена, когда… Загорецкий (г. Мо-сквин) остается один против Репетилова и они глядят друг на друга, получила неожиданное, жуткое значение, точно два пустых зеркала, поставленные одно против другого, повторили друг друга до бесконечности и застыли в ужасе, точно два пустые призрака вдруг узнали друг друга»87. Напомнила Волошину фигура Репе-тилова (В. В. Лужского) и декабристский фон комедии, действие которой «происходит в 1822 году за три года до декабристской катастрофы»: «…В устах Репетилова жужжит и повторяется
эхо всех московских разговоров этой эпохи… идеалистических заговоров и восторженных тайных обществ»88. Но другие критики (и те, которым спектакль МХТ понравился, и те, кто принял его в штыки) не услышали в речах Репетилова никакого «эха» декабризма, не увидели и открывшихся Волошину симво-листских глубин ни в исполнении И. М. Мо-сквина, ни в исполнении В. В. Лужского. Не заметили и их «парности». Даже Л. Я. Гуревич, утверждавшая, что «второстепенные роли лю-бовно распределены между лучшими артиста-ми труппы и останутся в памяти зрителя на всю жизнь»89, перечислившая едва ли не всех ис-полнителей и в первых рядах Загорецкого — Москвина («жизнерадостный мерзавец, с под-лым шипящим и свистящим хохотом»90), Репетилова–Лужского не упомянула. Быть может, она, подобно Григорьеву, причисляла его к главным лицам комедии? Но и среди них в ее рецензии места Репетилову не нашлось. А Н. Е. Эфрос поместил Репетилова–Лужско-го совсем в другую «пару»: «Гг. Лужский и Ада-шев были добросовестными докладчиками ролей Репетилова и Молчалина — ни хороши-ми, ни плохими. Они как-то мало замечались, исчезли, не успев заинтересовать»91. То, что роль Репетилова в первой режиссерской трак-товке «Горя от ума» потерялась, подытожил С. В. Яблоновский: «При всей тщательности своих изысканий Художественный театр про-глядел, оставил трафаретной фигуру Репети-лова…»92.
За честь «трафарета», имея в виду И. И. Со-сницкого, вступился А. С. Суворин. «Великие поэтические произведения непременно требу-ют талантов для своего исполнения»93, — писал он, отказывая Лужскому, сделавшему сцену с Ре-петиловым «скучною», в соответствии этой аксиоме, в отличие от Сосницкого, бравшего ту же сцену «своим талантом»94.
О несравненном исполнении Сосницким роли Репетилова писали несколько десяти-летий. «Роль сия, кажется, созданная для Сосницкого»95, не раз отмечалась и Ап. Григо-рьевым. «Чему были мы в особенности рады, — писал он в 1846 году, — так это тому, что публи-ка два раза вызывала Сосницкого за роль Репетилова. Это удивительно тем более, что артист, давно усвоивший роль, ничем не жерт-вует в ней для массы»96. Но в начале 1860-х годов оценка Григорьевым игры Сосницкого

Театрон [1•2012]
78
изменилась: «О г. Сосницком в роли Репетило-ва, им совершенно не понятой (курсив мой. — Г. Т.), лучше умолчать из уважения к его летам и действительным заслугам»97. Это вызвало критическую свару, напоминающую более поздние времена. «Явился в полном вооруже-нии новый эстетический критик, затмивший собою всех знатоков искусства, от Пушкина до Белинского включительно… и наговорил таких вещей, которые могут быть сказаны в состоянии кошмара или положительной бездарности»98. Кажется, что аргументы, приведенные в дока-зательство справедливости приговора Григо-рьеву, вроде тех, что Сосницкий не может играть иначе, как «в полном смысле художе-ственно», потому, что «был в самых близких отношениях с самим покойным Грибоедовым», могли бы и утихомирить желающих продол-жать в том же духе. Не тут-то было! Другой критик «Северной пчелы» от души поддержал коллегу: «Я был убежден, что искренние и го-рячие слова (предыдущего зоила. — Г. Т.)… докажут свирепому критику все заблуждения его, все дикие, нечеловеческие взгляды его на искусство; но, видно, умственно горбатого из-лечит одна могила. <…> Общественное мнение с отвращением смотрит на эти бездоказатель-ные и бранные статьи…»99.
Григорьев не собирался оправдываться перед хамским «общественным мнением». На-против, сказал вполне определенно то, о чем в предыдущей статье предпочел умолчать: «…Мы полагали, что даже и Сосницкий подлежит суду критики, если какой-либо роли он не понимал в течение 50-ти лет, думали, что пьяный нюня, изображаемый им в Репетилове, вовсе не вы-ражает идеи грибоедовского лица, азартного крикуна, говорящего по „торжищам“ о том, что
„Есть100 государственное дело,Оно ведь, видишь, не созрело,Нельзя же вдруг“…»101.Комментируя этот критический сюжет,
О. М. Фельдман писал, что Григорьев, в 1840-е годы «повторявший общераспространенные хвалы Репетилову Сосницкого, в 1862 году — в атмосфере переоценок, сложившейся после смерти Николая I, — увидел, что роль искаже-на…»102. «Как и каратыгинский Чацкий, Репе-тилов Сосницкого принадлежал николаевской эпохе»103. Даже если с этим согласиться, нельзя не заметить, что за социально детерминирован-ным подходом неразличима художественная
(театральная) острота спора Григорьева с кри-тиками «Северной пчелы». Может быть, Гри-горьев и погорячился, заявив, что Сосницкий изначально не понимал роли (хотя именно так считал, например, Ф. В. Булгарин104). Важнее в сказанном было другое — то, что не «понимал» он ее «в течение 50-ти лет». Исторические пе-реоценки, неизбежные для критика, точно так же неизбежны для актера, играющего роль в разные театральные времена. Именно в кано-низации подхода, уже не поддерживаемого слабеющими силами старого актера, в первую очередь упрекает Григорьев Сосницкого. И то, что он был прав, подтверждается привержен-ностью канону последующих исполнителей роли Репетилова, при неудачном опрощении его «характерностью».
Так, П. И. Зубров, «сменивший Сосниц-кого» в 1871 году, «старался скопировать уди-вительную по художественному совершен-ству игру г. Сосницкого», хотя «достиг только того, что как две капли походил на изображае-мого им же, г. Зубровым, писаря Ягодкина в „Паутине“ г. Манна, когда этот писарь напи-вается пьян»105. В авторе этой иронической характеристики легко узнается А. С. Суворин, упрекающий актера не столько в том, что тот «старался скопировать», сколько в несостоя-тельности претензий. Но канон, заданный Сосницким, намертво укрепился в сознании критиков: «Видишь нового исполнителя (Н. И. Новикова. — Г. Т.) и как-то невольно вспоминаешь покойного Сосницкого, этого идеала барича Репетилова; но comparaison n’est pas raison (сравнения излишни. — фр.)»106.
«С тех пор как покойный Сосницкий стал изображать Репетилова вполпьяна, — писал А. С. Суворин в 1885 году по случаю сцениче-ского юбилея комедии, — это предание как некоторая святыня перешла и к другим испол-нителям этой роли. < …> …Этот тип сделался каким-то узаконенным и наследственным»107. Нисколько этому не противостоя (П. М. Сво-бодин, по его словам, «в смысле подражателя Сосницкому… был почти хорош»), Суворин фиксирует, как подражание срывается в про-фанацию. Свободин «мало походил на барина» (аналогично Зуброву) и «много на полупьяно-го купца», явно показывая, что «Репетилов пьян и что потому он и врет: в трезвом виде он совсем-де не такой»108. Суворин считал вирту-озное изображение Сосницким Репетилова

История спектакля
79
«вполпьяна» неподвластным повторению и совсем не обязательным в сценической по-даче роли: «Полупьяный человек мало ли что болтает, но Репетилов болтает всегда, он верен себе с утра до вечера, и шампанское тут если играет роль, то случайную только»109.
Между тем пикировка критиков на «те-му» — пьяну ли быть Репетилову и если пьяну, то насколько пьяну, как «барин» или как «низ-ший сорт», — возникла с появлением «Горя от ума» на сцене. «Г-н Сосницкий представля-ет полупьяного мота (о чем нет и помину в коме-дии)… Не то, совсем не то!»110 Приговор Булга-рина тут же опротестовал другой критик: «Нам кажется, что, представляя его полупьяным, он докончил мысль комика, ибо, во-первых, Репе-тилов человек беспорядочный, во-вторых, спрашивается: может ли трезвый городить та-кие вещи, как он?»111 Нашелся и «предшествен-ник» будущих вдрызг пьяных Репетиловых — московский исполнитель роли В. И. Живокини: «Он ломается и коверкается нестерпимо. Ка-жется, это происходит от ложного понятия о Репетилове, вследствие которого г. Живоки-ни играет его слишком пьяным»112. Что решил на сей счет Мейерхольд, проясним чуть позже, предварительно затронув еще один «репети-ловский» сюжет.
Репетилов, образ Репетилова сразу вызвал критическую рефлексию, далеко выходящую за пределы актерского истолкования роли. Так, Н. И. Надеждин, расписывая «сценическую несообразность» «Горя от ума», приводил в качестве одного из примеров такой, очевид-ной на его взгляд, несообразности антре Репе-тилова — «к какой стати и с какою пользою для пьесы Репетилов прилетает к концу ее сломя голову»113? Но, несмотря на то, что в пьесе, по его словам, таких «несообразностей» с избыт-ком, что в ней слишком «мало… драматическо-го»114, что ее «акты сменяют друг друга как подвижные картины в диораме, доставляя удо-вольствие… каждый порознь, но не производя никакого цельного эффекта»115, критик был уверен, что «Горе от ума» все равно будет дер-жаться на сцене и «иметь зрителей как живой документ… общественной жизни»116, «живая сатирическая картина, вставленная в сцениче-ские рамы»117. Как восхитился бы проницатель-ностью Надеждина Мейерхольд, знай он эту статью критика! И уловленной им конструкции «Горя от ума», совпадающей с его представле-
нием; и вниманием к общественному срезу комедии. «Без сомнения, — писал Надеждин, — есть дистанция между Простаковым и Фа-мусовым, между Тарасом Скотининым и Сер-геем Сергеичем Скалозубом; но это дистанция не огромного размера! Одно и то же начало двигает их мыслями и действиями: „Ученье — вот чума!“ Это начало, выращавшее прежде в степной глуши Митрофанушек, не умеющих различить существительного от прилагатель-ного, производит ныне на вылощенном паркете Репетиловых, которые вшестером лепят во-девиль и готовы о всем сказать и написать не-что»118. Не отвлекаясь на впечатляющую своей актуальностью характеристику русской обще-ственной жизни, продолжим разговор о крити-ческой рефлексии, порожденной образом Ре-петилова.
Репетилов «прежде всего враль большого света, из него вышел Хлестаков», притом «враль более сложный и интересный, чем Хле-стаков»119, считал А. С. Суворин. То есть и он усматривал в Репетилове нечто общественно показательное. А С. В. Яблоновский в рамках рецензии на спектакль Художественного театра посвятил Репетилову целое эссе: «…Репетилов является в нашей литературе родоначальни-ком кающегося дворянина, лишнего чело-века… в нем, наряду со всеми беспутствами есть истинно симпатичные черты… он один не воздвигает гонения на людей, подобных Чац-кому, один его любит („любовь какая-то и страсть“! — Г. Т.), дольше всех не верит его безумию, искреннее и глубже всех его жалеет… он, как ни страшно это вымолвить, имеет общие типические черты с Чацким; разница между ними такая же, как между домашнею кошкой и львом — ведь оба из семейства felidae [коша-чьих — лат.]. Об этом стоило бы написать моно-графию»120. Монографию он не написал, но следует заметить, что «общие черты» с Чацким обнаружил в Репетилове еще Ф. М. Достоев-ский.
Н. В. Королева, прослеживающая в связи с Достоевским транспонирование образов «Горя от ума» в последующие эпохи, приводит любопытное высказывание дочери писателя об истолковании им образа Репетилова: «Досто-евский высоко ценил эту прекрасную сатиру на московскую жизнь и любил смотреть ее на сцене, но он находил, что наши актеры не по-нимают ее, в особенности роль Репетилова,

Театрон [1•2012]
80
которым он очень восторгался и в котором видел истинного предшественника либераль-ной партии западников. Наши актеры изобра-жают Репетилова комиком, Достоевский же считал этот тип глубоко трагическим»121. При-водит Королева и отрывок из воспоминаний А. С. Суворина о его беседе с Достоевским о «Горе от ума» за десять дней до смерти писа-теля: «Чацкий был ему не симпатичен. Он слишком высокомерен, слишком эгоист. У него доброты совсем нет. У Репетилова больше сердца»122. Подытоживая свои наблюдения, Королева верно замечает: «Скажем так: чем больше он охладевал к типу Чацкого, тем боль-ше „добрел“ к Репетилову»123.
Но сопоставляя менявшееся во времени отношение Достоевского к «паре» Чацкий — Ре-петилов с точкой зрения Григорьева, Н. В. Коро-лева допускает заметную, на наш взгляд, пере-держку. Характеризуя позицию критика, она пишет: «Репетилов, — утверждает Григорьев, — не причастен к фамусовскому миру застоя. Его тянет к себе светлое начало — благородное „дело“, пусть даже он видит в этом деле „блестящую“ его сторону, лишь „слова, слова“»124. Григорьев, однако, ничего такого не «утверждает». То, что Чацкого — «прямого сына и наследника Нови-ковых и Радищевых» — окружает «кроме среды застоя… еще множество людей, подобных Ре-петилову», которых «тянет блестящая сторона дела»125, как раз и показывает исторически не-изменную безвыходность положения Чацких. Ничего «доброго» и даже снисходительного в отношении к Репетилову у Григорьева не за-мечается: «Фигуру своего борца, своего Яфета Чацкого, он оттенил фигурою хама Репетило-ва…»126. Вот позиция Григорьева. Но она меша-ет Н. В. Королевой выстроить оппозицию Гри-горьев — Достоевский, при общей, на ее взгляд, симпатии обоих к Репетилову. Трактовка Гри-горьева, считает Королева, — «комическое ис-толкование типа Репетилова», Достоевского — трагическое. «Такой трактовки, — с сожалением заключает она, — русская сцена не знала»127. На наш взгляд, это было скорее к чести русской сцены, потому что «трагический тип» Репети-лова в понимании Достоевского это, по словам самой Королевой, человек, «лишенный связи с народом и опоры на народную почву», «легко заимствующий чужие идеи, за которые ему, впрочем (!), придется расплачиваться собствен-ной жизнью и судьбой»128.
Подобная трактовка, на первый взгляд, действительно пришлась бы впору и Григорье-ву, неизменно считавшему высшим достоин-ством художника «инстинктивное сочувствие с народной жизнью и народным созерцани-ем»129, присущее Пушкину. Но, в отличие от писателя, имеющего неограниченные права любой трактовки, критик подобной привиле-гией не обладает. Он зависим от трактуемого источника — произведения, образа и т. д. Каких бы взглядов ни придерживался Григорьев (а они от взглядов Достоевского отличались), он знал, что пишет о «Горе от ума», где Репети-лов профанирует идеи Чацкого, а сам Чацкий (которого Достоевский, прежде чем оконча-тельно в нем разочароваться, называл не иначе, как «совестливым говоруном»130) если и «мечет бисер перед свиньями», то потому только, что он «правдивая натура, которая никакой лжи не спустит»131, в том числе и репетиловских бредней.
«Чацкий, — писал Григорьев еще в 1846 году, — светлая, лучшая, благороднейшая сто-рона свой эпохи, то же, что J. J. Rousseau в XVIII веке, и он носит на себе даже клеймо заблуж-дений этой эпохи с ее возвышенными верова-ниями и нелепым китайским славянофиль-ством»132. Это — Григорьев с прилепившейся к нему славянофильской ориентацией, которо-му в таком случае следовало бы подписаться под каждой строчкой монолога Чацкого «Фран-цузик из Бордо»! А он, посетив вторично пред-ставление комедии с И. В. Самариным в роли Чацкого, писал: «Еще более, в этот раз благо-даря Самарину, мы помирились и с монологом „Французик из Бордо, надсаживая грудь…“. Это скверное, ложное, принявшее только лоск ев-ропейской образованности общество хоть в ком возбудит желание поучиться у китайцев»133. И Мейерхольд, будто подслушав Григорьева, вообще исключил «Французика из Бордо» из принятого к постановке текста Грибоедова.
Любопытно, что нечто «трагически-пато-логическое» мерещилось в Репетилове и со-временнику Мейерхольда, наркому здраво-охранения Н. А. Семашко, дружественно настроенному к ТИМу. «Репетилов, — писал он Мейерхольду, — еще ждет своего Чехова: как Чехов изобразил психологически и психиатри-чески тонко Хлестакова, так ждет своего изо-бражения несомненный параноик Репети-лов…»134. Но Мейерхольд, будучи уверенным,

История спектакля
81
что Михаил Чехов сыграл бы Репетилова не хуже, чем Хлестакова, ничего подобного в Ре-петилове не предполагал. Не находил он ника-кой клиники и в чеховском Хлестакове, хотя и призывал своих и чужих актеров учиться у него135. А вот с тем, что Фамусов это «Репе-тилов в старости» (так, по словам В. А. Филип-пова, играл Фамусова А. П. Ленский136), Мей-ерхольд согласился бы охотно. Ибо и в роли Репетилова в первую очередь предполагалась наступательная энергия, агрессивный напор.
Работа над «Горем уму» после вступитель-ной беседы с актерами (7 января 1927 года) началась не с привычного назначения на роли, а с актерских проб, согласно поданным заявкам: «Относительно будущих ролей — кто кого хо-чет играть. Но хочется, чтобы была инициати-ва»137. В. Ф. Зайчиков инициативу немедля проявил, подав заявку на роль Чацкого. Но Мейерхольд, лелеявший мечту о Чацком Гари-не («Я бы хотел, чтоб Гарин попробовал»138), отнесся к смелому почину Зайчикова без энту-зиазма: «Зайчиков — Чацкий. Но я бы хотел обратить внимание <Зайчикова> на роль Ре-петилова»139.
Упоминание Эраста Гарина как исполни-теля роли Чацкого на первой же беседе о «Горе уму» опровергает легенду о том, что актер по-лучил своего Чацкого не сразу, а в разгаре ре-петиций, будто бы после того, как Мейерхоль-да не устроил Чацкий — В. Н. Яхонтов. Ни Яхонтов (который, кстати, подавал заявки еще на роли Репетилова и Загорецкого140), ни про-бовавшийся на роль Чацкого Б. С. Глаголин в репетициях не участвовали. Мейерхольд не разочаровался в Яхонтове, как принято счи-тать141. Он изначально знал, что его Чацкий — Гарин.
Вероятно, знал это и Зайчиков, предпо-ложивший, что справится с ролью Чацкого не хуже Гарина и на тех же, по его убеждению, основаниях (в чем он заблуждался, ибо, в от-личие от Гарина, не был лирическим комиком). И, согласившись играть Репетилова, чувство-вал себя уязвленным.
Но для Мейерхольда, начавшего пробы со сцены Репетилова, участие Зайчикова было принципиально важно. Зайчиков мог задать верный тон всем остальным. «О системе под-хода к чтению, — говорил режиссер, — как чи-тать, как пробовать. <…> Можно… отдаваясь стихии музыкальной, услышать… словесный
материал. <…> Так вся <пьеса> задумана. Она написана как вещь страстная. Она очень дина-мична. И если динамику не нащупать, будет очень плохо»142.
На первой же пробе Мейерхольд сходу выстраивает сценический образ Репетилова. Выскочив из кареты, он «…очень ловит Чацко-го, ищет». «Из дома в дом ездит, он смотрит, где горит огонь, где разговоры. Он человек, кото-рый в деле — ловить, загребать — профессионал. <…> Невежда. <…> Он должен искать объект. <…> У него мозг неистощимый, как машина»143. Еще говорилось, что «надо приготовить ас-сортимент аксессуаров» для игры, что Репети-лов разговаривает жестами, а отсутствие тор-мозов («никакой сдержанности») определяет его натуру и его стихию: «Говорит с Чацким — Скалозуба не замечает. Чацкий исчез, Скало-зуб исчез — говорит перед вторым, четвертым и т. д.»144.
Предлагалось придерживаться биоме-ханического подхода, так подходящего, по мнению Мейерхольда, к роли Репетилова. «Стоп, — останавливал он актера. — Надо про-бовать: встал, споткнулся и дальше. От био-механики удар, удар — если он в очках, очки свалились, целая серия пинков — хаос»145.
Но Зайчиков, судя по замечаниям режис-сера, относился к его заданиям формально. «Сухо, — комментировал Мейерхольд. — Нет эдакого сумбура»146. А надо говорить то «опре-деленно и возбужденно», то «вдруг — стреми-тельно». «Чтоб несколько слов громоздились, падали. Трепетное звучание»147.
Легкость, произносил Мейерхольд свое любимое слово, определяющее высший класс актерской игры как таковой и безусильность биомеханического мастерства, которым Зай-чиков владел, может быть, как никто другой в ТИМе. Но легкости Зайчиков на сей раз не обнаруживал, и Мейерхольду приходилось выстраивать роль за актера — «…у него стреми-тельность, даже фальцетом орет», «экстазные выкрики», он «начинает трепетать, и с азар-том»148. И это, считал Мейерхольд, не совсем та «стремительность», которую, видимо, демон-стрировал Зайчиков, копируя своего партнера по «Великодушному рогоносцу» Игоря Ильин-ского.
Через три дня (12 января) на роль Репе-тилова пробовался Н. В. Сибиряк. И симпатии Мейерхольда (при явном равнодушии к роли

Театрон [1•2012]
82
Зайчикова) склонились в его пользу: «У Сиби-ряка есть краски Репетилова. Есть курсив. Он [воспринимает] слова, заставляет увидеть вну-треннюю сущность. Есть шансы. Смешит не трюкизмом, а подачей слова. Подача слова за-ставляет улыбнуться»149. Зайчиков от роли отказался, может быть, и потому, что услышал из уст Мастера похвалы Сибиряку в духе Ста-ниславского. Согласился на роль Загорецкого, а в «компенсацию» получил еще и бессловес-ную роль тапера в эпизоде «Танцкласс». «По-дарок» был знаковый, символический — ведь тапер и распорядитель танцев (Джиголо) были центральными ролями знаменитой мейер-хольдовской пантомимы «Шарф Коломбины» (1910). Исполнителей этих ролей — К. Э. Гиб-шмана и В. Я. Степанова — Мейерхольд назы-вал «первыми гротесковыми актерами»150 а саму пантомиму «первым явлением Гроте-ска»151.
Однако узнать, как же Зайчиков играл не то что тапера, но и Загорецкого, не представля-ется возможным. Ничего по существу не со-общила критика и об исполнении Сибиряком роли Репетилова. Можно ли что-нибудь пред-ставить себе из такого, например, критического пассажа: «Ниже всякой критики Репетилов (Сибиряк), и немногим лучше Загорецкий (Зайчиков). Когда двое последних закатывают-ся смехом в предпоследней сцене, зрителям становится не только не смешно, но скучно и тошно»152? Разве только то, что Н. Осинскому, не следившему за подбором слов, было всегда «скучно и тошно» от всех без исключения «мейерхольдовых причуд». «Загорецкий в на-меке режиссера — тайный агент полиции. Зай-чикову не удалось этого раскрыть»153, — сооб-щал Ю. В. Соболев. Откуда критик почерпнул информацию о подобном «намеке режиссера» и почему, если она достоверна, превосходному актеру не удалось справиться с таким простым заданием, остается загадкой. Даже П. А. Марков не затруднил себя аргументацией на счет Репе-тилова и Загорецкого, просто назвав эпизоды с их участием «грубыми», а исполнение ролей неудачным — «приобретя облик „уродов с того света“», они, по словам критика, «не приобрели выразительных очертаний»154. И это практиче-ски все, что написано о Репетилове и Загорец-ком в «Горе уму».
Причин, по которым не были удостоены критическим вниманием роли, неизменно вы-
зывавшие его прежде — и в XIX веке, и в раз-говоре об обеих редакциях спектакля МХТ, может быть две. Одна — предположительная. В беседе с участниками спектакля за четыре дня до премьеры Мейерхольд сказал: «Когда Репетилов говорит свой монолог, я все время противопоставляю лиц, о которых он говорит, лицам, которые соответствуют современности; у меня все время такие ассоциации: Воровский, Чижевский. Я всегда знаю, о ком говорит Ре-петилов в современности. Вот эти ассоциации нам нужны»155. Не исключено, что они считы-вались «лицами», которым были адресованы. Другая причина — очевидная и куда более су-щественная. И критикам, посчитавшим, что пришло время «топить» Мейерхольда, что уже можно безнаказанно унижать и оскорблять его (как в далекие времена Театра на Офицерской); и тем, кто был убежден, что историческое время Мейерхольда несопоставимо с реальным вре-менем «Горя уму», а потому ринулся его «спа-сать», было не до Загорецкого, ни даже до Ре-петилова. Спасать надо было Чацкого. Собственно говоря, по большому счету только о Чацком думал и сам Мейерхольд. Конечно, в кругу его самого пристального внимания на-ходились и Фамусов, и Софья, и Молчалин, но все — ради Чацкого. Это позволяет догадывать-ся, почему отсутствуют стенографические за-писи эпизодов с Загорецким и почему была оставлена работа над антре Репетилова, с кото-рой все началось.
И все-таки Мейерхольд к Репетилову вер-нулся. Не мог же он пропустить любимую роль! С которой начинал, которую играл и в Товари-ществе Новой драмы, чередуя с выступлением в роли Чацкого, никогда бы ему не доставшей-ся в Художественном театре. На финишной прямой, перед выпуском «Горя уму» Мейер-хольд заново сочинил своего Репетилова.
Этот новый Репетилов был совсем не по-хож ни на тех, которых Мейерхольд играл в молодости, ни на тех, что знала русская сцена. Хотя при желании в нем можно было увидеть и барственную легкость И. И. Сосницкого, и маску комедианта В. И. Живокини. Мейер-хольд решил теперь обыграть амплуа фата, в которое Репетилов попадал на всех возмож-ных по «Амплуа актера» основаниях. И по не-обходимым для исполнения данным актера — «Голос предпочтительно высокий. Владение фальцетом»156. И согласно «сценическим функ-

История спектакля
83
циям» — «Неумышленное задержание развития действия введением его в личный план»157. И просто как фат, денди московского света 1820-х годов. Но было и пародирование этого исторического фата в духе Живокини, который в водевиле «однажды… пародировал москов-ского фата»158, а в роли Репетилова «был бле-стящею карикатурой, написанной гениальным карикатуристом на беспутного прожигателя жизни 20-х годов…»159.
Эпизод Репетилова шел XVI-м номером (всего их было 17) и назывался «Каминная» (названия эпизодов указывались в программе спектакля). Из стенографической записи оче-видно, что режиссер отказался от динамиче-ской стремительности в подаче роли. «Я хочу, чтобы этот монолог был интимным, вот я его и изолирую»160. Немудрено, что изменилось буквально все. Репетилов, что специально оговаривалось, появлялся теперь не с парадно-го, а с заднего крыльца фамусовского дома, и потому становился излишним его эффектный выход с падением. Он был завсегдатаем «ка-минной», где, будто специально для него (или для таких, как он!), уже сервирован стол — бу-тылки «на большом серебряном подносе», за-куски, фрукты. «Репетилова еще не видно, Петрушка смотрит во все стороны, зовет его рукой, потом показывает бутылки и наливает стакан»161. Входит «на цыпочках», «вошел по-лупьяный». Держится, «как „денди“»; «краду-чись», приближается к столу и «сразу начинает что-то есть» — «у Домье есть такая сцена». Ест Репетилов, понятное дело, тоже как «денди» — «утонченно, смакует какие-то мокрицы в мин-дале (это как у китайцев — ведь они черт знает что едят)»162. И, само собой, пьет. Пьет на про-тяжении всего эпизода, щелкая рукой при-вычно подливающему Петрушке. Опьянение Репетилова подавалось как его естественное состояние. Болтовню он запивает шампанским, каждый бокал которого взрывает очередную очередь болтовни. В опьянении Репетилова все-таки не было заявленного в беседе с акте-рами «хамства, смешанного с блевотиной от шампанского»163, аналогичного подаче Хлеста-кова. Не было присущих «Ревизору» гротеско-вых перепадов, где грубый натурализм просекал условную ткань эпизода. Связь с «Ревизором» возникала в другой плоскости. Репетилов «ми-стифицирует Чацкого» так же, как Хлестаков окружающих. «Нужно дать в стиле Диккенса
этот выход. Это будет загадочная фигура (кур-сив мой. — Г. Т.). Пусть нас обвинят в мисти-цизме»164.
Игра с бокалом шампанского сопрово-ждалась игрой с цилиндром. Репетилов его то снимал, то снова надевал, мистифицируя не только Чацкого, но и зрителей. «Цилиндр луч-ше дольше не снимать, это заинтригует публи-ку. После „…зови меня вандалом“ на минуточку снимает цилиндр, но сейчас же надевает. Пу-блика опять заинтригована»165. После этих слов Репетилов закрывал рот перчатками, которые держал в другой руке. «Должна быть сплошная закутанность…»166.
Еще была игра с креслом и камином. «Ста-риннейшее вольтеровское кресло с большой спинкой» стояло перед камином. «Рыжевато-красный луч», падающий от него, предполага-лось совместить с «лунным светом из верхнего окна», чтобы создать «ощущение ночи» и ско-ординировать игру «света и актера».
«Исповедь» Чацкому («…чтоб исповедь начать…») Репетилов, предварительно вытурив Петрушку ногой и сев на ручку кресла («чтобы быть ближе к Чацкому»), «говорит ему почти на ухо». При этом «правую часть лица закры-вает цилиндром». Сообщив ему по-заговорщиц-ки о «секретнейшем союзе», «встает, обнимает Чацкого и, крепко держа его, жарит в ухо. „…у нас тебя недоставало…“ — целует его несколько раз». Потом — «валится снова в кресло»167.
Отдельным номером этого маленького спектакля была ария в исполнении Репетилова. Он «становится в позу, надел цилиндр на за-тылок, поет…». Предполагалась перекличка этого номера с эпизодом «Кабачок», где при-сутствующий и там Репетилов сейчас вспо-минает арию в исполнении певицы168. Во вре- мя пения Репетилов три раза ронял цилиндр и в конце концов надевал его на ногу.
И еще был комментарий Мейерхольда к сочинениям репетиловского гения — Удушье-ва Ипполита Маркелыча, о которых он спра-шивает Чацкого: «Читал ли что-нибудь? хоть мелочь?». Репетилов, говорит режиссер, «вы-нимает из кармана тетрадочку стихов, малень-кую тетрадочку, как тогда издавали», и тут же спохватывается — «…да он не пишет ничего…». «Как я (! — Г. Т.) написал одну книжку в три-надцатом году и больше не пишу»169.
На этом описание антре Репетилова об-рывалось, хотя, как известно, он общался еще

Театрон [1•2012]
84
со Скалозубом, Загорецким, семейством Ту-гоуховских и Хлестовой. Но как это выглядело и где происходило, неизвестно. Известна толь-ко (опять же из описаний самого Мейерхольда в его беседе с актерами перед премьерой) ми-зансцена пикировки Репетилова с Загорец-ким — они сидели друг против друга на ручках того самого вольтеровского кресла. Значит, диалоги Репетилова с Загорецким, а перед ним со Скалозубом происходили в «диванной», вряд ли знакомой Тугоуховским и Хлестовой.
Сочиненное Мейерхольдом антре Репети-лова могло и не быть окончательным. Режиссер был способен придумать для исполнителя ка-кое угодно и сколько угодно «антре». Но оно дает наглядное представление о механизме сложения режиссерского текста и принципах работы с актером. Многослойность текста, где едва возникшая бытовая мотивировка тут же «снимается» художественными ассоциациями, набегающими одна на другую: тут и Диккенс, и Домье, и собственные, давно найденные приемы и подходы. Координация «света и ак-тера» была открытием его первого условного спектакля «Снег» (1903), по-новому использо-
валась в «Жизни человека» (1907); мизансцена кресла перед камином переходила из одной сценической редакции «Кукольного дома» в другую. В заданиях актеру — требование безупречной, виртуозной техники.
Конечно, с момента первой пробы до за-вершающей разработки эпизода Репетилова пролегла «дистанция огромного размера». Но главное сохранилось — подход к роли в театре Мейерхольда остался биомеханическим. Сло-жение режиссерского текста — импровизаци-онно активным, вызывающим у автора поток все новых и новых реминисценций. И даже уподобление своей книги «О театре» тетрадоч-ке Репетилова искрится мейерхольдовской амбивалентностью. И смущением оттого, что книга и вправду оказалась одна — какие книги, когда надо выступать с докладами и отчетами! И потребностью в эффектной концовке режис-серского «антре», без которой Мейерхольд не признавал театра в театре. Та самая единствен-ная книга была написана когда-то, чтобы ска-зать читателю — мы в театре, господа! Отчего же сейчас было не повторить — мы в театре, товарищи!
1 Мейерхольд В. Э. Беседа с участ-никами спектакля 14 февраля 1928 г. // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2. С. 163.
2 О Фамусове: «…Живое лицо, но не типичная фигура» (И. [Иг-натов И. Н.]. «Горе от ума» в Ху-дожественном театре // «Горе от ума» на русской и советской сцене. М., 1987. С. 196.); «…Фамусов Ста-ниславского… удивительно яркая и живая фигура… <…> Все время точно не сцена перед глазами, а жизнь» (Сергей Глаголь [Голоу-шев С. С.]. Художественный театр и «Горе от ума» // Там же. С. 203).
3 См.: Вл. И. Немирович-Дан-ченко — В. В. Лужскому. 17 июня 1905 г. // Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма: В 2 т. М., 1979. Т. 1. С. 413.
4 Гуревич Л. Я. Московский Художественный театр. «Горе от ума» // «Горе от ума» на русской и советской сцене. С. 228.
5 Мейерхольд В. Э. <Проект по-становки «Горе от ума» в Театре
Революции>. 21 февраля 1924 г. Запись Н. П. Охлопкова // Мей-ерхольд В. Э. Статьи… Ч. 2. С. 58.
6 См.: Немирович-Данченко Вл. И. «Горе от ума» в Московском Ху-дожественном театре // Вестник Европы. 1910. № 5. С. 375–392; № 6. С. 367–386; № 7. С. 332–349.
7 Cм.: А. С. Пушкин — А. А. Бес-тужеву. Конец янв. 1825 г. Из Михайловского в Петербург // Собр. соч.: В 10 т. М., 1962. Т. 9. С. 133–134.
8 «А Пушкин — наше всё: Пуш-кин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, осо-бенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами» (Гри-горьев А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина (1859) // Григорьев А. А. Литера-турная критика. М., 1967. С. 166).
9 Мейерхольд В. Э. <Проект по-становки «Горе от ума» в Театре Революции>: <Экспликация спек-такля>. 21 февр. 1924 г. // Мейер-хольд В. Э. Статьи… Ч. 2. С. 59.
10 См.: Там же.11 У Пушкина: «Первый при-
знак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело и не метать бисера перед Репети-ловыми и тому подоб.». Огрублен-ная формула Мейерхольда «ме-тать бисер перед свиньями» — на-глядное подтверждение трактовки «Горя от ума» как «комедии о хам-стве» в духе Григорьева (см.: Из вы-ступления на диспуте о «Горе уму» в Государственном институте жур-налистики 31 марта 1928 года // Творческое наследие В. Э. Мейер-хольда. М., 1978. С. 68).
12 Мейерхольд репетирует: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 176.
13 Вл. И. Немирович-Данченко — В. В. Лужскому. 17 июня 1905 г. Усадьба Нескучное // Немирович-Данченко Вл. И. Избранные пись-ма. Т. 1. С. 413.
14 См.: Там же. С. 414. И. В. Са-мариным — Фамусовым Немиро-вич-Данченко восхищался еще будучи рецензентом в 1880-е годы: «О г-не Самарине в роли Фамусо-
Примечания

История спектакля
85
ва я говорить не стану: это такой восторг, которого нельзя пере-дать» (Вл. [Немирович-Данченко Вл. И.]. «Горе от ума» на сцене Малого театра // «Горе от ума» на русской и советской сцене. С. 153). «Поэтом житейской пошлости» называл Фамусова — Самарина Л. Н. Антропов (см.: Посторонний [Антропов Л. Н.]. Театральная хроника // Там же. С. 147).
15 Мейерхольд репетирует. Т. 1. С. 197.
16 Там же. С. 176.17 Там же. С. 179.18 Там же.19 Там же. С. 176.20 Там же.21 Там же. С. 177.22 Там же.23 Там же.24 Там же.25 К слову, и К. С. Станислав-
ский, по воспоминаниям В. П. Ве-ригиной, приходил в заключитель-ной сцене комедии «в неописуемое бешенство»: «Он расталкивал но-гами повалившихся на колени слуг… был похож на взбесившегося лягающегося коня» (Веригина В. П. Воспоминания. Л., 1974. С. 167). «Шумная и бурная» финальная сцена, где «Фамусов — Станислав-ский энергичными пинками и под-затыльниками красноречиво до-казывает жертвам своего гнева, что он вовсе не шутит, когда грозит провинившимся сослать и упечь», была отмечена и рецензентом спектакля 1906 года как побившая «все рекорды» реализма МХТ (Exter [Введенский Ал. И.]. «Горе от ума» на сцене Художественного театра // Московский Художе-ственный театр в русской теа-тральной критике, 1906–1918. М., 2007. С. 15).
26 Мейерхольд репетирует. Т. 1. С. 235–236.
27 Там же. С. 176. К началу ра-боты над «Горем уму» (январь 1927 г.) И. В. Ильинский в ТИМе отсутствовал. Вопрос о его воз-вращении и согласии играть роль Фамусова решился, по словам комментатора книги «Мейерхольд репетирует» М. М. Ситковецкой, «ближе к лету 1927 года»; на репе-тициях он появился впервые в ноя-
бре 1927 г. Вплоть до этого време-ни репетиции (согласно практи-ке, сложившейся в ТИМе) шли в виде читок и проб актеров, за-писавшихся на ту или иную роль. Так, на роль Фамусова пробова-лись А. В. Логинов, А. Б. Велижев, П. И. Старковский. Дублер Ильин-скому все-таки потребовался, он «часто болел, жаловался на невоз-можность репетировать и играть в нетопленном помещении» (Ситко-вецкая М. М. Комментарии // Мей-ерхольд репетирует. Т. 1. С. 269). Им стал вахтанговец О. Н. Басов.
28 Гвоздев А. А. «Иль–ба–зай» // Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1987. С. 38.
29 Кугель А. По поводу постанов-ки «Леса» // Мейерхольд в рус-ской театральной критике, 1920–1938. М., 2000. С. 139.
30 Мейерхольд В. Э. Создание элементов экспликации: Лекция на режиссерском факультете Госу-дарственных экспериментальных театральных мастерских (ГЭТЕ-МАС) им. Вс. Мейерхольда. 28 февраля 1924 года // Творческое наследие В. Э. Мейерхольда. С. 59.
31 Там же.32 Там же.33 «В области художествен-
ной, — писал П. А. Марков в связи с постановкой „Леса“ (1924), — вы-звал преимущественные споры натурализм, возвращающий, по мнению многих, театр к натура-лизму раннего Художественного театра. Однако средства сцениче-ского воздействия в одном и дру-гом случае противоположны. Про-тивоположно и их применение. Натурализм Мейерхольда, по су-ществу, есть натурализм приема — отнюдь не образа» (Марков П. А. Московская театральная жизнь в 1923–1924 годах // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1976. Т. 3. С. 158–159).
34 Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. Амплуа актера. М., 1922. С. 16.
35 Загорский М. «Великодушный рогоносец» // Мейерхольд в рус-ской театральной критике, 1920–1938. С. 35.
36 Марков П. А. Московская театральная жизнь в 1923–1924
годах // Марков П. А. О театре. Т. 3. С. 159.
37 Загорский М. «Великодушный рогоносец» // Мейерхольд в рус-ской театральной критике, 1920–1938. С. 35.
38 Марголин С. Мольеру — Мей-ерхольд // Там же. С. 37.
39 Гвоздев А. Лифт и качели: (В московских театрах) // Там же. С. 129.
40 Читая в 1934 году лекцию на театральном семинаре «Интури-ста», Мейерхольд говорил: «Сей-час к столетию смерти величайше-го нашего поэта Пушкина, к 1937 году, я готовлю „Бориса Годунова“, причем роль Бориса я даю Игорю Ильинскому. К этому я пришел, товарищи, не в порядке трюкаче-ства, а в порядке самого добросо-вестного изучения „Бориса Году-нова“, причем в этом своем по-ступке я перед историей отвечу, так как, черт возьми, такая дата» (Мейерхольд В. Э. Статьи… Ч. 2. С. 298). Отвечать «перед истори-ей» Мейерхольд все же не решил-ся, трезво осознав, что его смелая идея будет расценена не иначе, как «в порядке трюкачества» или, того хуже, — формализма. На роль Бориса Годунова был назначен Н. И. Боголюбов. Впрочем, как известно, и Боголюбову роль сы-грать не пришлось — работа над пушкинской трагедией осталась незавершенной в связи с закрыти-ем ТИМа.
41 Мейерхольд репетирует. Т. 1. С. 179.
42 См.: Мейерхольд В. Э., Бебу-тов В. М., Аксенов И. А. Амплуа актера. С. 8.
43 Там же.44 Мейерхольд В., Бебутов В.
Одиночество Станиславского // Мейерхольд В. Э. Статьи… Ч. 2. С. 31.
45 Фельдман О. М. Судьбы «Горя от ума» на сцене // «Горе от ума» на русской и советской сцене. С. 39.
46 Веригина В. П. Воспоминания. С. 166.
47 Эфрос Н. Е. Московские пись-ма // Московский Художествен-ный театр в театральной критике, 1906–1918. С. 605.

Театрон [1•2012]
86
48 Волошин М. А. Возобновление «Горе от ума» в Малом театре // «Горе от ума» на русской и совет-ской сцене. С. 230.
49 Цит. по: Фельдман О. М. Судь-бы «Горя от ума» на русской и со-ветской сцене // Там же. С. 63. Кстати, и здесь трудно удержаться от аналогии со Станиславским, у которого из-под халата торчали даже не «панталончики», а кальсо-ны: «Кальсоны-то он показал, а Фамусова не было, — злорадно объявлял Ю. Д. Беляев. — <…> Беременная горилла какая-то» (Беляев Ю. Д. «Горе от ума»: (Мо-сковский Художественный те-атр) // Там же. С. 226). Дорево-люционная театральная крити-ка позволяла себе распускать язык не хуже советской и постсовет-ской!
50 Тальников Д. Л. «Горе уму» у Мейерхольда // Мейерхольд в русской театральной критике, 1920–1938. С. 268.
51 Пиксанов Н. К. «Горе уму». Театр имени Вс. Мейерхольда: (В порядке обсуждения) // Там же. С. 274.
52 Слонимский А. Л. Сценическая поэма о Чацком — декабристе // Там же. С. 278.
53 Соболев Ю. В. «Горе уму» в Теа-тре В.Мейерхольда // Там же. С. 267.
54 Осинский Н. [Оболенский В. В.]. «Горе уму», или Мейерхольдовы причуды // Там же. С. 263.
55 Мейерхольд В. Э. «Учитель Бубус» и проблема спектакля на музыке: (Доклад, прочитанный 1 января 1925 г.) // Мейерхольд В. Э. Статьи… Ч. 2. С. 74–75.
56 Мейерхольд В. Э. Из беседы с режиссерами периферийных теа-тров. 11 февраля 1935 года // Творческое наследие В. Э. Мейер-хольда. С. 93.
57 М. М. Ситковецкая, как уже говорилось выше, объясняет ав-рально возникшее дублерство тем, что И. В. Ильинский часто болел. Вряд ли это было подлинной при-чиной — скорее взаимной (режис-сера и актера) оправдательной мотивировкой возможной замены.
58 Осинский Н. «Горе уму», или Мейерхольдовы причуды // Мей-
ерхольд в русской театральной критике, 1920–1938. С. 263.
59 Марков П. А. Очерки театраль-ной жизни: К вопросу о сцениче-ском прочтении классиков // Марков П. А. О театре. Т. 3. С. 533.
60 Там же. С. 531.61 Фельдман О. М. Судьбы «Горя
от ума» на сцене // «Горе от ума» на русской и советской сцене. С. 62.
62 Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984. С. 291.
63 Там же. С. 292.64 Там же.65 Цит. по: Мейерхольд репети-
рует. Т. 1. С. 263.66 Ильинский И. В. Сам о себе.
С. 294.67 Там же. С. 294–295.68 Мейерхольд В. Э. Из беседы
с режиссерами периферийных театров. 11 февраля 1935 года // Творческое наследие В. Э. Мейер-хольда. С. 88.
69 См.: Стрелер Д. Театр для людей: Мысли записанные, вы-сказанные и осуществленные. М., 1984. С. 136.
70 Там же. С. 138.71 Вайскопф Ф. Беседа с Мейер-
хольдом // Berlin am Morgen. 1930. 1 april. Цит. по: Даешь Европу, Мейерхольд! Гастроли ГосТИМа в Германии в 1930 г. / Публикация В. Ф. Колязина // Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века. М., 2009. Вып. 4. С. 644.
72 См.: Ростоцкий Б. И. О режис-серском творчестве В. Э. Мейер-хольда. М., 1960.
73 «…До самого последнего вре-мени, — писал Б. И. Ростоцкий, — никто не занимался подлинно научным изучением творчества В. Э. Мейерхольда… в театроведе-нии господствовало односторон-не отрицательное отношение ко всему его наследию… (в том числе и в работах автора этих строк), включая и наиболее об-стоятельное… первый том „Очер-ков истории русского советского драматического театра“, подготов-ленный Институтом истории Академии наук СССР и выпущен-ный в 1954 году» (Там же. С. 5–6.). Чем на самом деле являлось это «односторонне отрицательное от-
ношение» и что такое «обстоятель-ное исследование» первого тома «Очерков», сразу определил неиз-менно называвший вещи своими именами Н. П. Акимов: «Попытка вымарать Мейерхольда из истории советского театра столь же безум-на, как обойтись без Маяковского в истории советской поэзии.
Печатные издания, выпущен-ные на такой антиисторической основе, с замалчиванием и дис-кредитацией Мейерхольда, явля-ются вредной макулатурой» (Внуч-ка Мейерхольда: Книга о жизни Марии Алексеевны Валентей. М., 2009. С. 111). Это отрывок из одного из многих, но самого сме-лого из реабилитационных писем в защиту Мейерхольда, собранных М. А. Валентей в 1955 г.
74 Ростоцкий Б. И. О режиссер-ском творчестве В. Э. Мейерхоль-да. С. 6.
75 Ильинский И. В. Сам о себе. С. 293.
76 Алперс Б. В. « Горе от ума» в двух театрах // Алперс Б. В. Теа-тральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2. С. 427.
77 Там же. С. 429.78 Там же. С. 427.79 Григорьев А. А. По поводу
нового издания старой вещи: «Горе от ума». СПб. 1862 // Григо-рьев А. А. Литературная критика. С. 509.
80 Там же. С. 510.81 Там же. С. 509.82 Мейерхольд В. Э. Беседа
с участниками спектакля. 14 фев-раля 1928 года // Мейерхольд В. Э. Статьи… Ч. 2. С. 163.
83 Там же.84 Современники не сомнева-
лись — Репетилов имел в виду графа Ф. И. Толстого-Американца, высаженного за ссору с команди-ром корабля на Алеутские острова близ Аляски во время кругосвет-ного плавания.
85 Григорьев А. А. По поводу ново-го издания старой вещи: «Горе от ума». СПб. 1862 // Григорьев А. А. Литературная критика. С. 510.
86 Мейерхольд В. Э. Беседа с участниками спектакля. 14 фев-раля 1928 года // Мейерхольд В. Э. Статьи… Ч. 2. С. 163.

История спектакля
87
87 Волошин М. А. «Горе от ума» на сцене Московского Художе-ственного театра // «Горе от ума» на русской и советской сцене. С. 212.
88 Там же.89 Гуревич Л. Я. Московский
Художественный театр: «Горе от ума» // Там же. С. 229.
90 Там же.91 Н. Эф. [Эфрос Н. Е.]. «Горе от
ума» в Художественном театре // Там же. С. 200.
92 С. П. [Яблоновский (Потре-сов) С. В.]. «Горе от ума» // Мо-сковский Художественный театр в русской театральной критике, 1906–1918. С. 25. Судя по критике, и в возобновленном «Горе от ума» (1914) Лужский роль не углубил: «…Тот же Репетилов, для которого у г. Лужского и раньше не оказы-валось достаточно ярких красок — не оказывается и теперь…» (Эф-рос Н. Е. Московские письма // Там же. С. 605). Эфросу вторил Ю. В. Со-болев: «Не ярок Репетилов Луж-ского. Он не запоминается» (Со-болев Ю. В. «Горе от ума»: (Художе-ственный театр) // Там же. С. 601).
93 Суворин А. С. Маленькие пись-ма: DCXCIX // Там же. С. 66.
94 Там же.95 [Булгарин Ф. В.?]. Третье
и четвертое действия комедии «Горе от ума»: (Бенефис гг. Гри-горьева-старшего и Каратыгина-меньшого.16 июня на Малом теа-тре) // «Горе от ума» на русской и советской сцене. С. 83.
96 [Григорьев А. А.]. Театраль-ная летопись: «Горе от ума». Чац-кий — г. Самарин. Фамусов — г. Брянский. Спектакль 17 мая // Там же. С. 114.
97 [Григорьев А. А.]. Современ-ное состояние драматургии и сцены: Статья вторая // Там же. С. 121.
98 А. П. [Полетаев А. М. ?]. Не-сколько слов в защиту исполнения «Горе от ума» на русской сцене: (К издателю «Северной пчелы») // Там же. С. 122.
99 Любитель театра. По поводу статей, помещенных в журнале «Время»: (К издателю «Северной пчелы») // Там же. С. 122.
100 У Грибоедова не «есть», а «но».101 [Григорьев А. А.]. Современ-
ное состояние драматургии и теа-
тра: Статья четвертая // «Горе от ума» на русской и советской сцене. С. 123.
102 Фельдман О. М. Судьбы «Горя от ума» на сцене // Там же. С. 21.
103 Там же.104 Объявив, как уже сказано,
роль Репетилова созданной для Сосницкого (пока тот выступал в роли Загорецкого), Булгарин, когда актер наконец получил ее, посчитал, что «Репетилов… не тот человек в лице г. Сосницкого» (Булгарин Ф. В. «Горе от ума», комедия в четырех действиях, в стихах, соч. А. С. Грибоедова, представлена в первый раз вполне на Большом театре в бенефис г. Брянского. 26 января [1831] // Там же. С. 87).
105 Незнакомец [Суворин А. С.]. Недельные очерки и картинки // Там же. С. 140.
106 Новый [Худеков С. Н.?]. «Горе от ума» с новой обстановкой [1880] // Там же. С. 156.
107 [Суворин А. С.]. Пятьдесят пять лет на сцене // Там же. С. 169.
108 Там же. С. 170.109 Там же. С. 169–170.110 Булгарин Ф. В. «Горе от ума»,
комедия в четырех действиях, в сти-хах, соч. А. С. Грибоедова, пред-ставлена в первый раз вполне на Большом театре в бенефис г. Брян-ского, 26 января // Там же. С. 87.
111 ХХ. Русский театр: «Горе от ума». Спектакль на Малом театре 27 октября // Там же. С. 93.
112 [Надеждин Н. И.]. «Горе от ума»: Комедия в четырех действи-ях А. Грибоедова // Там же. С. 99.
113 Там же. С. 94.114 Там же. С. 93.115 Там же. С. 94.116 Там же. С. 95.117 Там же. С. 94–95.118 Там же. С. 95.119 Суворин А. С. Маленькие
письма: DCXCIX // Московский Художественный театр в русской театральной критике, 1906–1918. С. 65.
120 С. П. [Яблоновский С. В.]. «Горе от ума» // Там же. С. 25.
121 Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. М.; Л., 1922. С. 92–93. Цит. по: Короле-
ва Н. В. Достоевский и «Горе от ума» // Достоевский и театр: Сб. статей. Л., 1983. С. 125.
122 Суворин А. С. О покойном // Ф. М. Достоевский в воспомина-ниях современников: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 249.
123 Королева Н. В. Достоевский и «Горе от ума» // Достоевский и театр. С. 149.
124 Там же. С. 151.125 Григорьев А. А. По поводу
нового издания старой вещи // Григорьев А. А. Литературная критика. С. 509.
126 Там же. С. 503.127 Королева Н. В. Достоевский
и «Горе от ума» // Достоевский и театр. С. 152.
128 Там же.129 Григорьев А. А. По поводу
нового издания старой вещи // Григорьев А. А. Литературная кри-тика. С. 501.
130 «В черновом наброске („Бе-сов“. — Г. Т.) содержалась, — ком-ментирует Н. В. Королева, — рез-кая отрицательная оценка Чацко-го устами Шатова: Чацкий — „огра-ниченный дурак“, зачинатель ан-тинародного движения, которое ведет прочь от России, в эмигра-цию, в католицизм, к потере на-циональности» (Королева Н. В. Достоевский и «Горе от ума» // Достоевский и театр. С. 138–139).
131 Григорьев А. А. По поводу нового издания старой вещи // Григорьев А. А. Литературная кри-тика. С. 504.
132 [Григорьев А. А.]. Театраль-ная летопись: «Горе от ума». Чац-кий — г. Самарин, Фамусов — г. Брянский. Спектакль 17 мая // «Горе от ума» на русской и совет-ской сцене. С. 112.
133 Григорьев А. А. Театральная летопись: Спектакль 29 июля. «Горе от ума» // Там же. С. 114.
134 Н. А. Семашко — В. Э. Мей-ерхольду. Март — апрель 1928 г. // Мейерхольд В. Э. Переписка, 1896–1939. М., 1976. С. 283.
135 См.: В. Э. Мейерхольд о со-временном театре [Изложение до-клада в Доме санитарного просве-щения] // Театральная Москва. 1921. № 2 С. 2; Micaelo. Мейер-хольд о Чехове. [Изложение доклада

Театрон [1•2012]
в Третьей студии МХАТ] // Экран. 1921. № 10. С. 12.
136 Филиппов В. А. Пять Фаму-совых // Сто лет Малому театру. М., 1924. С. 82.
137 Мейерхольд репетирует. Т. 1. С. 160.
138 Там же. С. 161.139 Там же. С. 158.140 См.: Ситковецкая М. М.,
Фельдман О. М. [Вступительный текст к стенограммам] // Там же. С. 156.
141 Известная записка Мейер-хольда ассистенту режиссера, жене Гарина Х. А. Локшиной наверняка была написана во время проб, а не репетиций «Горя уму». В ней Мей-ерхольд как бы подтверждал для себя, что выбор Гарина — верный: «Я знаю: меня будут упрекать в пристрастии, но мне кажется, только Гарин будет нашим Чац-ким: задорный мальчишка, не „трибун“. В Яхонтове я боюсь „тенора“ в оперном смысле и „кра-савчика“, могущего конкуриро-вать с Завадским. Ах, тенора, черт бы их побрал!» (Цит. по: Там же). Ср. с Григорьевым о Чацком — А. А. Нильском: «Чацкого ему, в сущности, играть нельзя, потому что он имеет несчастье быть урожденным jeune premier, а для Чацкого нужен трагик, только,
конечно, не чета нашим обычным трагикам» (Редактор. [Григо-рьев А. А.]. Г-жа Владимирова в роли Софьи Павловны // «Горе от ума» на русской и советской сцене. С. 125).
142 Мейерхольд репетирует. Т. 1. С. 161.
143 Там же.144 Там же.145 Там же.146 Там же.147 Там же.148 Там же. С. 162.149 Там же. С. 164.150 Хотя В. Я.Степанов был даже
не актер, а искусствовед, ученый-архивариус; в 1920–1930-е годы он заведовал музеем ТИМа.
151 Эйзенштейн С. М. [Записи лекций В. Э. Мейерхольда, 1922] // Эйзенштейн о Мейерхольде. М., 2004. С. 110.
152 Осинский Н. [Оболенский В. В.]. «Горе уму», или Мейерхольдовы причуды // Мейерхольд в русской театральной критике, 1920–1938. С. 264.
153 Соболев Ю. В. «Горе уму» в Теа-тре В. Мейерхольда // Там же. С. 267.
154 Марков П. А. Очерки театраль-ной жизни: К вопросу о сцениче-ском прочтении классиков // Там же. С. 286.
155 Мейерхольд репетирует. Т. 1. С. 243.
156 Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. Амплуа актера. С. 8–9.
157 Там же.158 Марков П. А. Малый театр
тридцатых и сороковых годов XIX века (период: Мочалов — Щеп-кин) // Марков П. А. О театре. М., 1974. Т. 1. С. 67.
159 Кичеев П. И. Малый театр: «Горе от ума» с новыми исполни-телями [1899] // «Горе от ума» на русской и советской сцене. С. 189.
160 Мейерхольд репетирует. Т. 1. С. 229.
161 Там же. С. 230.162 Там же.163 Мейерхольд В. Э. Беседа
с участниками спектакля. 14 фев-раля 1928 года // Мейерхольд В. Э. Статьи… Ч. 2. С. 163.
164 Мейерхольд репетирует. Т. 1. С. 230.
165 Там же.166 Там же.167 Там же. С. 231.168 Строчка арии, приведенной
Грибоедовым в монологе Репети-лова, «А! нон лашьяр ми, но, но, но» («Ах, не покидай меня, нет, нет, нет») — из оперы Б. Галуппи «Покинутая Дидона».
169 Мейерхольд репетирует. Т. 1. С. 231.

89
Благодарю госпожу К. Казассас за предоставленные материалы
Нангьяр-кутту (или кутху), одна из вет-вей санскритского театра кудияттам, — это женское сольное пантомимическое представ-ление, которое рассчитано на впечатляющую продолжительность от двенадцати до сорока одной ночи (что, однако, редко можно увидеть в наши дни). Этот вид искусства близок как к танцу, так и к религиозному ритуалу, а в его основании лежат классический санскритский эпос и драматургия. «Драматическое содержа-ние может быть найдено в различных сольных формах индийского классического танца — это бхаратанатьям с юга Индии, североиндийский катхак, одисси с востока и мохиниаттам из Кералы — и в фольклорных формах, таких как гамбхира в Бенгалии, сераикелла чхау в Бихаре, майурбхандж чхау в Ориссе и пурулия чхау в Бенгалии. Кроме того, в некоторых областях драматическое содержание тесно связано с риту-альными церемониями, в частности мутийет-ту и тейям в штате Керала. Одной из частей драматического наследия Индии является по-вествовательное актерское искусство чакьяр кутту и нангьяр кутту в Керале; актерское исполнение и пение солистов танца туллал, тоже из Кералы; а также пение и простые танцы кавадов Раджастана»1. Однако большое коли-чество жанров не заслоняет нангьяр-кутту, а, скорее, подчеркивает особенное положение этой в первую очередь театрально-драмати-ческой формы.
Женщины на сцене: традиция «Натьяшастры»
…Видел я кайшикиУ танцующего Нилакхантхи.Ей свойствен изящный наряд,
Рождается она расой шрингара.Исполнить ее хорошо без женщин,
С одними мужчинами, невозможно!
Пусть натья апсар, как она есть,Будет в нашем доме.
…Поэтому создание в моем домеНатьи с разными персонажами,
Сплетенной из игривых движений женщин,
Далеко разнесет вашу славу.Натьяшастра
Как сказано в «Натьяшастре» Бхараты, женское театральное искусство порождается любовным чувством, то есть расой шрингара (или шрунгара), от которой происходит другая раса — смешная (или веселая) — хасья. Богини-танцовщицы, апсары, созданные «силой мыс-ли» бога Брахмы для «украшения натьи», по-лучили в свое распоряжение целый комплекс движений, «подобающих расам и бхавам»2. Эта красивая традиция «Натьяшастры», безуслов-но претерпевшая ряд изменений, сохраняется и по сей день в искусстве нангьяр-кутту.
Историю нангьяр-кутту, хотя и достаточ-но условно, можно разделить на три периода: «придворный» период (правление раджи Кулашекхары, время которого в основном да-тируется X–XI веками, хотя существуют ис-точники, относящие его к IX веку), «храмово-ритуальный» период (начался около XIV века) и современный, «демократический» период (с середины ХХ века до наших дней). «В каж-дый из этих периодов женщины имели различ-ный статус в представлении»3.
Основателем нангьяр-кутту считается раджа Кулашекхара Перумаль (правитель Ке-ралы примерно с 978 по 1036 год). Легенда о происхождении этого вида искусства похожа на сказку из «Тысячи и одной ночи». У раджи Кулашекхары было много прекрасных жен, но
А. Б. Ульянова
Драупади, Сита и другие: женское сольное исполнительское искусство нангьяр-кутту*
* Продолжение. Начало см.: Театрон. 2011. № 2 (8). С. 93–105.

Театрон [1•2012]
90
больше всех он любил ту, которая была заме-чательной актрисой. Но она не принадлежала к одной из высших каст — к касте воинов, — и потому остальные жены презирали ее. Сам раджа «был не только талантливым драматур-гом, но и хорошим актером. Толан, его министр-брахман, написал руководство для актеров, аттапракара4, и способствовал нововведе-ниям в сценической практике, предназначен-ным для обеспечения более реалистичного исполнения и большей популярности театра»5. Чтобы продемонстрировать всем дарования любимой жены, раджа добавил в свою пьесу «Субхадра дхананджайям» на мифологиче-ский сюжет из Махабхараты6 новый персо-наж — Чети, подругу главной героини, которая «выступает на заднем плане и появляется перед зрителями в роли сторонней рассказчицы»7, представляющей публике сказание о Кришне (Шрикришначаритам). Ее появление «пред-варяла барабанная дробь»8, а само выступление было танцевально-пантомимическим. Весь дворец рукоплескал исполнительнице, все при-знали ее талант, и с тех пор подобные высту-пления стали регулярными. Шрикришначари-там в традиции нангьяр-кутту часто называют по имени персонажа его первой исполнитель-ницы — Чети-нирваханам, что означает «рас-сказ девушки»; нирваханам — это повествова-ние от лица одного персонажа о событиях, предшествовавших тем, которые происходят на сцене, и в данном случае оно может длиться сорок и одну ночь9.
Об этом периоде в истории нангьяр-кутту известно слишком мало достоверных фактов. Сохранились только легенды, одной из которых является легенда о происхождении актерской касты намбьяров, музыкантов кудияттама, женщины которой получили название нангьяр. Намбьярами становились удочеряемые в ак-терскую касту девочки, рожденные женщинами-брахманками от мужчин из других каст. «Ак-трисы, принадлежавшие к касте нангьяр, исполняли женские роли и отбивали ритм на цимбалах (талам), а иногда распевали стихи на санскрите (шлока10). Но в течение ритуаль-ного периода в истории кудияттама, начавше-гося в XIV веке, когда кудияттам исполнялся только внутри куттампаламов (храмовых теа-тров), женщины на сцене не появлялись»11. Женские роли исполнялись мужчинами. А. Мад-хаван отмечает тенденцию «удаления женщин
со сцены в индийском театре, особенно в тех представлениях, которые были близки к риту-альным и классическим исполнительским формам и в которых в женских ролях выступа-ли мужчины; подобная тенденция проявлялась преимущественно в катхакали и якшагане, а также в ритуалах, связанных с культом могу-щественной богини Кали, известной в Керале как Мутийетту»12. Порождение кудияттама, мужская танцевальная драма катхакали, на-чавшая развиваться в Керале в XVI веке, со-вершенно отказалась от участия женщин в своих представлениях.
Подобная тенденция характерна не только для Индии, ибо в определенный период она затрагивала все восточные театры. Так, в япон-ском театре начиная с XVII века женщины были изгнаны со сцены, женские роли испол-няли мужчины (исполнять песни и танцы было дозволено только гейшам). Лишь на рубеже XIX–XX веков появляются театральные кол-лективы, где женские роли были возвращены актрисам. В традиционном китайском театре существовало женское амплуа «чжуандань» (буквально «переодетый в женщину»), назва-ние которого, «вероятно, объясняется тем, что в X–XIII вв. женские роли в основном играли мужчины»13. Можно также привести пример Ирана, так как «первое известное выступление женщины-актрисы на иранской сцене состоя-лось в Тебризе в 1879 году»14.
В так называемый «храмовый» период истории индийского классического театра «в танце превалировала, по-видимому, панто-мима», а сам танец «не был полностью само-стоятелен, но был тесно связан с богослужени-ем и повествованием»15. В наши дни в Индии все еще «существуют традиционные театры и театрализованные действия, зачастую приу-роченные к храмовым и календарным праздни-кам»16. В том, что и за женским ритуальным исполнительским искусством нангьяр-кутту стоит религиозная традиция, уверены и амери-канская исследовательница Дайана Догер-ти17, и французская независимая исполни-тельница кудияттама Корали Казассас, которая пишет, что «начиная с XIV века нангьяр-кутту ежегодно исполняется при некоторых храмах в качестве ритуала»18. При этом в основном «с XIV по XX век актрисы касты нангьяр пре-кращают исполнять женские роли в кудиятта-ме, однако успешно развивают сольное творче-

Виды театра
91
ство»19. Некоторое уточнение в сроки вносит еще одна американская исследовательница — Дженнифер Пост: «…до середины XIX века в придворных и храмовых спектаклях женщи-ны, в отличие от мужчин, не часто выступали сольно»20. Популяризация сольных женских выступлений нангьяр-кутту относится все же к ХХ и XXI веку.
Вторая половина XX века, хотя и далеко не сразу, привнесла в кудияттам несколько «демократических» тенденций. Во-первых, с 70-х годов этому искусству стали учить не только членов каст чакьяров и намбьяров, но и представителей других сообществ. Во-вторых, театр кудияттам вышел за пределы куттамбаламов21, за пределы Кералы и даже за пределы самой Индии. И, в-третьих, женщины вернулись на сцену в новом, еще более ярком качестве. «В наши дни женское творчество в кудияттаме развивается в разных направле-ниях, но преследует одну цель: противостоять историческому процессу, пытающемуся избе-гать женщин, и вновь занять подобающее жен-щинам место, используя свободные средства самовыражения»22. Некоторые исследователи называют это искусство «новым нангьяр-кутту», так как оно отличается от классическо-го в трех аспектах: во-первых, оно стало фраг-ментарным, его продолжительность часто ограничивается одним-двумя часами; во-вторых, ныне оно исполняется на светских сценических площадках актрисами, принад-лежащими к разным кастам и даже разным культурам, в том числе представительницами Европы (таковы, например, обучавшиеся в Индии француженка Корали Казассас и немка Хайке Мозер); и, в-третьих, новое театральное искусство концентрируется вокруг женских персонажей.
В институте исполнительских искусств (Керала Каламандалам) гуру Паинкулам Рама Чакьяр воспитал трех актрис, одной из которых является наставница Арьи Мадхаван, знамени-тая Марги Сатхи. Актрисы нового поколения активно принялись возрождать искусство нангьяр-кутту, восстанавливая и играя женские персонажи в классических пьесах, а также соз-давая собственные спектакли. Так, Марги Сатхи «возродила персонаж Ситы в семиактной пьесе Ашчарьячудамани»23. Каламандалам Ги-риджа, еще одна ученица гуру Паинкулама Чакьяра, которая «жаждала предоставить сво-
им студенткам больше возможностей для выступления на сцене», руководствуясь «педа-гогическими мотивами», выступила как хорео-граф новых сюжетов для кудияттама24. А вос-питанница гуру Амманура Мадхава Чакьяра, прославленная Уша Нангьяр25, которая «всегда хотела противостоять» исторической неспра-ведливости и «наслаждаться более широким полем деятельности», чем то, которое предо-ставляется просто преподаванием, «вернула к жизни многие санскритские драмы, создавая в них женские роли (например, в Катьяяни пураппад26»27. Уша Нангьяр является препо-давательницей ныне хорошо известной в Евро-пе исполнительницы кудияттама Капилы Вену, дочери Нирмалы Паникер28, танцовщицы мо-нихиаттама, и одного из последователей гуру Амманура Чакьяра — Гопала Наира Вену. Ка-пила Вену, ныне директор школы исполнитель-ских искусств Натана Кайрали, начала учиться кудияттаму в возрасте семи лет. Ее преподава-телями были родители, гуру Амманур Чакьяр, а также Китангур Рама Чакьяр и вышеупомя-нутая Уша Нангьяр. Гопал Вену поставил де-вятичасовую версию «Сакунталы» со своей дочерью в заглавной роли и побывал с этим спектаклем в Риме, Токио и Париже. Капила Вену выступала в парижском музее Бранли в сентябре 2006 года, в рамках театрального цикла под общим названием «Махабхарата — всемирная эпопея». Там было представлено три спектакля на индийские мифологические сю-жеты: кукольный спектакль «Махабхарата» (франко-итальянский театр Арк-ан-тер, по-становка Массимо Шустера), «Сказание о Нале» (японская труппа КуНа’ука, режиссер Сатоши Мияги) и «Шрикришначаритам» в исполнении Капилы Вену. «Шрикришначаритам — это поэма, состоящая примерно из 240 четверости-ший; однако версия, доступная на сегодняшний день, включает в себя только 217 четверости-ший. Некоторые пассажи в ней взяты из других произведений, таких как Гитаговинда или, на-пример, Сакунтала Калидасы, и незначительно модифицированы в соответствии со стилем изложения. …Публикация Шрикришначаритам явилась поворотным моментом для возрожде-ния искусства нангьяр-кутту»29, тем более что «культ Кришны главным образом ассоцииру-ется с мимическим танцем»30.
Интерес к индийскому театру во Франции вообще достаточно высок. Так, в жанре

Театрон [1•2012]
92
нангьяр-кутту выступает французская актриса и независимая исполнительница кудияттама Корали Казассас. Она посвятила себя практике кудияттама с 2004 года и провела в Керале более трех лет, обучаясь у трех разных препо-давателей — Каламандалам Гириджи, Марги Сатхи и Уши Нангьяр. В 2006 году К. Казассас защитила магистерскую диссертацию по ис-кусству на тему о нангьяр-кутту в Университе-те Безансона и продолжает писать о нем на французском и английском языках.
Драупади: между прошлым и будущим
…Без сомнения, наша судьбаПредопределена была совершённым прежде.
Натьяшастра
Актриса-нангьяр выступает в специфиче-ском костюме и в очень сложном гриме. Грим актеров кудияттама позволяет зрителям рас-познавать персонажей с первого взгляда. Для женских персонажей используется два класси-ческих вида грима: минукку (для всех, кроме некоторых богинь) и пажукка (более яркий, он используется редко). На лицо актрисы нано-сится бледно-желтый или бледно-оранжевый грим (пажукка требует ярко-красного). Глаза и брови подводятся черной краской, над ними украшение — белые точки, повторяю-щие форму бровей. Под нижние веки кладутся зерна баклажана, отчего глаза становятся крас-ными.
Основные цвета костюма — красный, бе-лый и золотой. Костюм составляют белое хлопчатобумажное полотно с золотой каймой, обернутое вокруг талии (юбка), и красная или красно-белая облегающая тело кофта с корот-кими рукавами и золотыми «эполетами». На голове у актрисы цветочные гирлянды, длин-ный парик (педари), развевающийся при каж-дом повороте, и высокий красный головной убор (горшок), спереди украшенный изображе-нием золотой кобры. На актрисе всегда много браслетов и цепочек, обязательно — серьги, редко — кольца. На поясе — колокольчики, по-званивающие в такт движениям исполнитель-ницы. Костюм достаточно тяжелый. Но тяжесть его почти не замечается актрисой, благодаря точной технике исполнения.
Как же исполняется нангьяр-кутту? «На сцене в определенное время может находиться только один актер, но он рассказывает о многих героях представления, используя пакарнат-там — искусство преображения без смены костюма и грима»31. Приведем пример. В сбор-нике «Приглушенные голоса: женщины в со-временном индийском театре» есть статья Лакшми Субраманиам «Фольклорные формы и современный театр»32. Автор берет интервью у актрисы Б. Джайяшри33, которая исполнила роль Драупади34 в пьесе «Uriya Uyyale» в по-становке С. Суредранатха. «Пьеса была по-ставлена в стиле керальского фольклорного театра кудияттам. …Это был женский полуто-рачасовой моноспектакль. Единственный реквизит — ящик с разноцветными одеждами. Когда протагонист — Драупади — открывает ящик, она достает одеяние за одеянием и рас-сказывает зрителям свои воспоминания, свя-занные с ними. Сюжет пьесы вращается вокруг Пандавов, которые собираются отправиться на Сваргарохини35. Готовясь к предстоящему пу-тешествию, она [Драупади] начинает уклады-вать вещи и говорит себе: „Погода там холодная, мне нужно взять с собой теплые вещи“. Она складывает сари, которое надевала на сваямва-ру36, и сари, которое было на ней во время ва-страхарана37. Она аккуратно складывает эти сари и рассказывает истории, связанные с ними. Она рассказывает о том, как ее мать сказала ей, что она уже взрослая и должна носить сари. Она касается своих волос, и это вызывает у нее в памяти ее отношения с Арджуной38. Пока она рассказывает об Арджуне, ей вспоминается Бхима39, и это, в свою очередь, поворачивает ее мысли вспять, к первой ночи и к Дхармарадже40. Глядя на вину41, она вновь вспоминает Арджу-ну, который в совершенстве играл на ней. Затем ей на ум приходит эпизод, связанный с ее во-лосами („распущенные волосы никогда не бу-дут заплетены“)42. Она очень живо описывает потерю своих пятерых сыновей, которые по-гибли не из-за болезни, а из-за мести. Это Uriya Uyyale, или „горящее качание“: ее память ме-чется, перелетая от детства к старости, от на-стоящего к будущему и снова к прошлому»43.
Пьеса «Uriya Uyyale» написана на языке каннада, ее автор — поэт Х. С. Венкатеш Мурт-хи. На английский язык это название переводят как «The Burning Swing», «горящее качание» или «горящие качели»44. С образом качелей

Виды театра
93
связаны некоторые ритуалы не только в Индии, но и в других странах. «Качание, колыхание сопровождает жизнь человека задолго до его рождения и не исчезает со смертью. Во многих народных песнях зачатие описывается как танцевальное, плавное схождение с небес в дом звезды — души ребенка. Покачивание продол-жается и в утробе матери, и после рождения — в колыбели. Позднее оно как бы возобновля-ется в виде распространенного в Европе пасхального качания девушек и парней на ка-челях. Оно предваряет и будто бы вводит их в стадию женихов и невест („колыхаемых“). Радостно танцуют, движутся солнце, звезды и люди — все в одном ритме, одним дыхани-ем»45. В Индии обряд раскачивания на качелях связан с весенним праздником Холи, во время которого сжигают чучело демоницы Холики и пачкают друг друга яркими красками. Этот праздник связан и с именами Кришны и его возлюбленной Радхи. «В дни Холи статую Кришны, как и изображения других богов, рас-качивают на качелях, отсюда и другое название праздника — Доладжатра („праздник каче-лей“)»46. В небольшой заметке на сайте театра Спандана47 название пьесы дополнительно обыгрывается с филологической точки зрения: «Uriya Uyyale является замечательным лингви-стическим экспериментом, в котором Драупади предстает как дочь Огня (Агнипутри); она рас-качивается между прошлым и будущим, по-стоянно, шаг за шагом, оглядываясь на всю свою жизнь. Так формируется структура пьесы. Рас-крытие истинной сущности жизни Драупади заключено для нее в границы ее собственной души, и все свои переживания — счастье, пе-чаль, унижение, высокомерие — она рвет на части, чтобы обнажить свой внутренний мир. Она идентифицирует себя с Землей. В конце концов все становится Землей. И в этом по-стулате она видит смысл своего внутреннего существования. Кульминация пьесы — в сме-шении энергии Драупади с энергией разорен-ной, покинутой Земли».
Не только в театре Спандана, но и в «но-вом нангьяр-кутту» Драупади — это женщина, противостоящая всему миру, в особенности миру мужчин; вовсе не робкая овечка, но ярая мстительница. Играя Драупади, Уша Нангьяр изображает это с помощью жеста: «…когда ей нужно сказать Я, она использует жест, харак-терный для мужского персонажа»48. Действи-
тельно, в кудияттаме используются разные жесты для передачи местоимения «я»: женский персонаж использует обе руки, производя ими жест мягкий и грациозный; мужской персонаж исполняет величавый мужественный жест одной рукой. Используя мужской жест, Уша Нангьяр подчеркивает силу, мужество и вели-чие Драупади.
Сита: удивительная стойкость
…Действие, производимое героическим,Именуется удивлением (адбхута)…
Натьяшастра
Литературовед-индолог П. А. Гринцер по-лагает, что после Бхавабхути, который был «последним великим драматургом, писавшим на санскрите»49, в санскритской драматургии начинается упадок. «Дальнейшее развитие драматических жанров свидетельствует о боль-шом влиянии его стиля… Так, под влиянием Бхавабхути на сюжет „Рамаяны“ были написа-ны „Ашчарьячудамани“ („Чудесный эгрет50“) южноиндийского драматурга Шактибхадры (IX в.)51… и ряд других пьес. Авторы этих пьес… сосредоточивали усилия не на психологической мотивировке поведения героев, а на изощрен-ности стиля и риторических эффектах. Их драмам недостает композиционного единства, и от этого они иногда выглядят серией пове-ствовательных и лирических эпизодов в стихах и прозе. К тому же они зачастую так велики по размеру, что трудно себе представить их сце-ническую интерпретацию»52. Именно сцени-ческую интерпретацию эпизодов из пьесы Шактибхадры и предлагает кудияттам. «Ашча-рьячудамани — первая из известных в настоя-щее время санскритских драм, написанных на юге»53. А следовательно, и это подтверждается словами Н. Рамани, пьеса Шактибхадры явля-ется «хорошо известной в традиции кудиятта-ма»54. Театральный критик, литературный редактор Центра исполнительских искусств в Ченнае55, член Академии Сангит Натак56 Нандини Рамани в интервью на сайте www.narthaki.com, отвечая на вопросы о значении «Рамаяны» для исполнения бхаратанатьяма и рассуждая о месте этого эпоса в традиции санскритской драмы, приводит в качестве при-мера несколько пьес на санскрите, которые,

Театрон [1•2012]
94
по ее мнению, могут ставиться и в наши дни: Кундамала Дхиранаги, Уттарамачаритам Бхавабхути, Пратиманатакам Бхасы и Ашча-рьячудамани Шактибхадры.
Название пьесы «Ашчарьячудамани» вос-ходит к Пятой книге (части) «Рамаяны» — Сун-дара Канда, что означает «прекрасная часть»: жена Рамы Сита находится на Ланке во власти ракшаса (демона) Раваны; Равана угрожает ей смертью, если она его не полюбит; Сита стои-чески переносит унижения от демониц-ракшаси, которые мучают ее по приказу Рава-ны; верность ее Раме неколебима, хотя она худеет, бледнеет и теряет красоту; обезьяний царь Хануман находит Ситу, которая хочет передать с ним послание для Рамы; Хануман просит у Ситы какую-нибудь вещь, чтобы Рама поверил, что послание действительно исходит от нее; тогда Сита отдает ему свой свадебный подарок — маленький жемчужный гребень — ашчарьячудамани. Из семи актов (анкам) пьесы в кудияттаме исполняются три: Шурпа-накханкам — второй, Ашокаваниканкам — пя-тый и Ангулийанкам — шестой. «Пьеса начина-ется с пребывания Рамы, Ситы и Лакшманы в лесу в уединенной хижине и появления Шур-панакхи57, а заканчивается испытанием Ситы огнем и появлением Нарады58, благословляю-щего Ситу, Раму и Лакшману»59.
Арья Мадхаван считает традицию испол-нения этой пьесы примером одного из способов устранения со сцены женщины-исполнитель-ницы. «Интересный технический прием» за-ключается в том, что актрису можно подменить предметом реквизита: «Ситу заменяют горящей на сцене лампой, с которой беседует Хану-ман»60. В 1990-е годы Марги Сатхи «возродила персонаж Ситы в каждом из семи актов Ашча-рьячудамани»61. Она «играет очень могучую Ситу, которая сохраняет чувство собственного достоинства даже тогда, когда Рама отвергает ее. Из-за сильной позиции Ситы легендарно „безупречный“ Рама предстает не слишком по-рядочным человеком»62. Прежде чем исполнить роль Ситы, Марги Сатхи провела целое иссле-дование, которое полностью изменило ее перво-начальное отношение к данному персонажу. «Она [Марги Сатхи] рассказала, что в ее детстве Ситу изображали как пример преданной жены, которая всегда без оглядки следует за своим мужем, Рамой. Но Марги Сатхи раскрыла ее сильный характер, в силу которого она может
чувствовать к Раме даже презрение, когда в седь-мом акте Ашчарьячудамани он от нее отказы-вается, усомнившись в ее верности»63. В 1999 году Марги Сатхи опубликовала свой собствен-ный текст для исполнения в нангьяр-кутту, который «состоит из 224 стихов, описывающих жизнь Рамы с точки зрения Ситы», и из этого текста «уже поставила более десяти эпизодов, по полтора часа каждый»64. Эстафету подхва-тили другие исполнительницы. Так, Марги Уша исполнила эпизод про сваямвару Ситы. «Этот новый репертуар, Шрирамачаритам („История господина Рамы“) тем лучше впи-сался в комплекс кудияттама, что его стали вводить в качестве нирваханам для Ситы во втором акте пьесы Бхавабхути Уттарамача-ритам»65. Таким образом, подтверждается су-ществование замкнутого круга Бхавабху-ти–Шактибхадра–Бхавабхути, замеченного П. А. Гринцером.
Основная раса в пьесе Ашчарьячудамани (согласно классификации «Натьяшастры») — «это адбхута — удивительная, чудесная»66. Для одной из своих новых композиций о Сите Мар-ги Сатхи выбрала «три другие расы — любовь, гнев и печаль»67, которые она использует также и при исполнении роли Путханы.
Путхана: неминуемое возмездие
…Где-то в ней дхарма, где-то игра,Где-то артха, где-то отрешение,Где-то шутка, где-то сражение,Где-то кама, где-то убийство…
Натьяшастра
Один из наиболее востребованных сюже-тов в нангьяр-кутту (и в катхакали) — это Путханамокшам, «Спасение Путханы». По мифу у царя Уграсены родился сын Камса, в котором воплотился один из наиболее злоб-ных демонов. Когда Камса вырос, он силой захватил престол своего отца. Сестра Камсы Деваки стала невестой одного из знатных вои-нов — Васудевы, сына царя Шурасены. Во время свадебного торжества один провидец предсказал Камсе, что восьмой ребенок от это-го брака принесет ему смерть. В ярости Камса готов был зарубить Деваки мечом, но Васудева поклялся, что будет отдавать Камсе всех своих детей. Камса заточил Васудеву и Деваки в тем-

Виды театра
95
ницу и в последующие годы убивал всех рож-давшихся у них детей. В ночь рождения вось-мого ребенка Деваки у Ешоды, жены пастуха Нанды, родилась девочка, в которой воплоти-лась сестра Бога Вишну, чья энергия погрузила всех дворцовых стражников в сон и распахнула двери темницы. Под покровом темноты Васу-дева отнес новорожденного младенца Деваки в дом пастуха Нанды и поменял его на родив-шуюся у Ешоды девочку. Как и все инкарнации Бога Вишну на Земле, малыш имел синеватый оттенок кожи, поэтому Ешода решила назвать его Кришна («черный»). Узнав, что восьмому ребенку сестры удалось спастись, Камса созвал советников-демонов и повелел им убить всех мальчиков, родившихся за последние десять дней во всех городах и деревнях.
Демоница Путхана приняла облик пре-красной женщины и отправилась по домам, где недавно родились дети, чтобы поить их отрав-ленным грудным молоком. Когда же она добралась до Кришны, тот вместе с молоком вы-сосал все ее жизненные силы, и миф заканчи-вается смертью Путханы, которая признает божественную силу Кришны, тем самым спасая свою душу. «Этот эпизод очень важен, посколь-ку, во-первых, он символизирует торжество Кришны над демонами, а во-вторых, привносит в исполнение концепцию жестокой женствен-ности, что в первую очередь и пытаются под-черкнуть современные актрисы»68.
Профессор Иерусалимского Университе-та Давид Шульман в путевом дневнике «Весна, жара, дожди: Заметки о Южной Индии» об-разно, хотя и очень сжато описывает свои впечатления об увиденном им представлении Путханамокшам в жанре нангьяр-кутту в ке-ральском городе Калади 21 февраля 2006 года (очевидец сравнивает исполнение с набегаю-щими волнами): «В течение двух часов, секун-да за секундой, действие то нарастает, то спа-дает, достигая пределов видения и понимания, а медлительность и размеренная искусность придают ему глубину»69.
Искусность исполнения Путханамокшам разными актрисами анализирует Корали Ка-зассас. Первый сольный вариант и собственную версию представила Каламандалам Гириджа в 1986 году на публичной сцене в Ченнае70, со-вершив прорыв кудияттама «нового формата», который «открыл широкое пространство твор-ческой свободе актрис» и запустил «вторую
волну женских персонажей, разрабатываемых самими женщинами»71. Впервые на сцене разы-грывался отдельный эпизод в стиле кудияттама. «Это был значительный шаг: отныне нангьяр-кутту представляется не в полном объеме, фоку-сируясь на истории бога Кришны, а распадает-ся на истории разных персонажей, в данном случае — это история женского персонажа, Путханы»72.
Уша Нангьяр традиционно начинала со шлоки, в которой Путхана получает от Камсы приказ убивать младенцев: так зрители узнава-ли, что это не ее выбор. Когда Путхана добира-ется до дома Кришны, она испытывает такую сильную материнскую любовь к нему, что не решается сразу его убить. Ее миссия убийцы и материнский инстинкт вступают в конфликт, и, таким образом, «Путханамокшам концен-трирует в себе трагизм женской судьбы, чему способствует и особая актерская техника — бхаватрейям, использование которой проясня-ется в исполнении Марги Сатхи»73.
Три шлоки, разыгрываемые в Путхана-мокшам, обычно звучат в конце представления, но в спектакле Марги Сатхи появилась новая шлока (первая из четырех разыгрываемых), в которой Путхана демонстрирует различные способы детоубийства: удушение, удар головой об пол, растаптывание ногами, и лишь приняв решение превратиться в прекрасную женщину, чтобы беспрепятственно заходить в чужие дома, она решается на более «мягкий» способ — от-равленное молоко. Причина, по которой Марги Сатхи вставила эту шлоку в начало, чисто теа-тральная: она структурирует пьесу, напоминая зрителям о приказе, отданном Камсой, а кроме того, она показывает жестокость Путханы, тем самым усиливая контраст и конфликт в момент колебания демоницы перед убийством младен-ца Кришны. «Марги Сатхи настаивала на том, чтобы, убивая, Путхана улыбалась, подчерки-вая свою жестокость… когда же Путхана видела Кришну, Марги Сатхи настаивала на том, что-бы она вспоминала собственных детей и в этот момент испытывала ужас матери от смерти ребенка… Марги Сатхи внесла еще одно изме-нение: она не разыгрывала роль матери, уви-девшей мертвого ребенка, она играла радость Путханы, услышавшей отчаянный материн-ский вопль»74. Умирающая Путхана в исполне-нии Марги Сатхи оставалась жестокой, так как даже на пороге смерти она не желала признать

Театрон [1•2012]
96
мощь Кришны. Техника бхаватрейям (то есть техника «трех выражений» лица актера) отра-жает три внутренних состояния Путханы при виде Кришны: «Любовь к Кришне, гнев (а ино-гда и страх) по отношению к Камсе и печаль от собственного бессилия перед ситуацией»75.
Сохраняя традицию, каждая актриса вно-сит что-либо новое в свое исполнение. И, как мы видим, в кудияттаме всегда находится место для импровизации. «Кудияттам, нангьяр кутху и прабандха кутху76 — это театр прежде всего актерский, в том смысле, что актер/актриса обладает свободой творческой интерпретации роли в пьесе»77. В книге «Театр Кудияттам и актерское сознание» Арья Мадхаван расска-зывает о том, как она сама выступала в Уэльсе в мае 2005 года со спектаклем на все тот же сюжет Путханамокшам: «Я вспоминаю недав-ний случай, который произошел со мной во время моего представления кудияттама… Разы-грывался тот эпизод, когда Путхана впервые видит младенца Кришну; и я всегда исполняла его так, чтобы вслед за абсолютным спокой-ствием на моем лице резко появлялось выра-жение изумления. Время от времени это репе-тировалось, ради девушек, помогавших мне, потому что одна из них обеспечивала бегущую строку во время выступления. В тот день я из-менила это движение… добавив в него элемент религиозного обряда. Я начала складывать руки в жесте поклонения младенцу Кришне… и вне-запно вздрогнула, как если бы я сама вдруг очнулась (или мой персонаж), до того как мои руки завершили жест. К моему удивлению, все это было действием непроизвольным, которое не было ни запланировано, ни отрепетировано… это было так, как будто кто-то заставил меня исполнить этот „незавершенный жест“, чтобы добавить остроты и значимости последующим событиям»78. Этот случай подтверждает мысль, которую высказала Судха Гопалакришнан79: «Пьеса в кудияттаме предоставляет актеру минимальное количество текста, чтобы силой воображения и импровизации он передал с его помощью множество смыслов. Этот текст есть только „пред-текст“, а спектакль зависит от „под-текста“, предоставляемого руководством по постановке»80.
Как объясняет К. Казассас, к импровиза-ции близка и манодхармабхинайя, вольная разработка роли второстепенного персонажа. В Путханамокшам второстепенным является
образ матери, потерявшей ребенка, а показа-тельным — исполнение Капилы Вену в сентя-бре 2007 года, описанное К. Казассас. «Это представление длилось около семи минут, хотя обычно оно занимает не более тридцати секунд. Капила изобразила мать в тот момент, когда она оставляет спящего младенца в доме, а сама отправляется заниматься хозяйством (изобра-жалась дойка коровы). В этот момент появля-ется Путхана и поит ребенка отравленным молоком. Капила изображала Путхану в со-стоянии паники: персонаж, казалось, был вовсе не горд своим поступком, а скорее в ужасе от возможного столкновения с матерью убитого младенца. Когда Путхана уходила, Капила изо-бражала мать, возвратившуюся с ведром моло-ка. Улыбаясь, она делала жест, означавший „он спит“, создававший контраст с известной пу-блике ситуацией (Путхана только что убила ребенка). Затем, с любовью беря ребенка на руки, мать чувствовала, что он холодный. Она не хотела признавать, что он умер, пыталась спасти его, вздрагивала несколько раз так, как будто ее дитя действительно мертво, кричала, снова вздрагивала и т. д. Эти детали придавали спектаклю реальность и психологизм. Изобра-зив мать, Капила переходила к изображению реакции Путханы, которая слышала вопли матери: первой реакцией Путханы было со-страдание, но потом она осознавала, что вы-полнила свой долг, и чувствовала удовлетворе-ние»81.
Каннаки: ярость женственности
…Действие же, производимое яростью (раудра),
Дόлжно знать как печальную расу…Натьяшастра
Европейцы хорошо знают о древней ин-дийской традиции, согласно которой вдова всходила на погребальный костер мужа (в «Ма-хабхарате» есть даже такой эпизод, когда Бхи-масена убивает Кичаку, посягнувшего на честь Драупади, а несчастную женщину собираются сжечь на погребальном костре Кичаки, хотя у нее живы все пятеро мужей). Женщина, ко-торая этого не делала, становилась изгоем об-щества, а уж о том, чтобы вторично выйти за-муж, для нее и речи быть не могло. Индийские

Виды театра
97
мифологические жены — Сита, Драупади, Да-маянти и пр. — это образец покорности и цело-мудрия, верности и нежности. «Впервые образ реальной целомудренной женщины в прямом смысле этого слова выведен в тамильской эпи-ческой поэме Силаппадхикарам… несколько эпизодов из жизни героини, Каннаки, пред-ставлены в ней как документальные события, которые происходили в трех древних тамиль-ских царствах»82.
Эпическую поэму «Силаппадхикарам» («Повесть о браслете») сочинил тамильский принц Иланго Адигаль примерно во II или в III веке. Сюжет ее довольно сложен. Как во всяком эпосе, в поэме много событий и персонажей, фабула же такова: «Муж Каннаки, торговец Ковалан, потратил все свое состояние на куртизанку-танцовщицу Мадхави. Каннаки страдала молча. Когда деньги, а вместе с ними и привязанность Мадхави растаяли, Ковалан возвратился к своей целомудренной жене. Супруги решили переехать в город Мадурай и там начать жизнь с нуля. В Мадурае Каннаки отдала Ковалану один из своих ножных золо-тых браслетов, усеянных драгоценными кам-нями, чтобы продать и увеличить их благо-состояние. Золотых дел мастера обвинили Ковалана в краже царицыного браслета, и он был казнен, не успев оправдаться. Когда Кан-наки узнала о том, что произошло, она зашага-ла во дворец, держа в руке второй браслет и требуя справедливости. Когда царь осознал свою вину, он стал умолять Каннаки о проще-нии. Но Каннаки была в ярости. Она оторвала одну свою грудь и с силой швырнула посреди городской площади, где та вспыхнула пламе-нем. Вскоре весь город пылал. Почти все жите-ли сгорели заживо. Те же, кто выжил, стали поклоняться Каннаки как богине, бережно хранили ее изображение и молились, чтобы она смирила свой гнев»83. Можно полностью со-гласиться с тем, что «Каннаки… в первую оче-редь является архетипом тамильской культу-ры»84, ведь в 1968 году в Ченнае ей был поставлен памятник, изображающий эпизод, когда разгневанная женщина требует справед-ливости у царя Пандияна: в правой руке она держит браслет, левая рука вскинута в обви-няющем указующем жесте. «Каннаки — это прут, который так часто в бешенстве ломают мужчины, притесняя и подавляя женщин, огра-ничивая их жизнь кухней. Каннаки — это та
узда, которая веками использовалась против женщин слабовольными мужчинами. Канна-ки — это защитная крепость главенствующего образа мыслей мужчин, которые говорят, что могут жить, как им вздумается, но жена должна жить, повинуясь каждому их слову. Если такой Каннаки поставили памятник, то он остается немым вопросительным знаком»85. Ответ на вопрос о положении женщины в индийском обществе до сих пор не прозвучал. «В начале ХХ века воспитанные в английских традициях тамильские литераторы подверглись влиянию идеалов Западного Просвещения. В то же самое время на них повлияли и реформы в Бенгалии. Они транслировали идеалы бенгальского дви-жения за гендерную реформу на тамильскую почву и придумали образ идеальной тамиль-ской женственности, используя бытовую сим-волику „целомудрия“, „статуса замужней женщины“, „материнства“… некоторые ведущие писатели просто скопировали его из культур-ной тамильской традиции женских образов, таких как, например… Каннаки — образцовая жена»86. Однако, несмотря на сложившийся культурный и литературный штамп, «Каннаки в гораздо большей степени является символом мужского превосходства, чем символом жен-ственности»87. И актрисы «нового нангьяр-кутту» не смогли пройти мимо этого образа. В 2004 году Марги Сатхи представила на сцене «Каннакичаритам», то есть «Историю Канна-ки». Эта история выходит за рамки кудияттама, так как в ней дается не мифологический образ, а «портрет реальной местной героини»; также она является «революционной в том, что каса-ется эпизодических историй, отделенных от классической структуры кудияттама»88. Дело в том, что «в Каннакичаритам Марги Сатхи создает такой мир мужчин, в котором царят воровство, ложь, гнев и несправедливость, в то время как женщины остаются в нем целому-дренными, даже проститутка Мадхави, которая показана лишь как рабыня, покорная мужчи-нам»89. Глядя на исполнение Марги Сатхи, можно заметить, что «она мало сострадает мужчинам, показывая преобладание в них низменных желаний», и при этом «изображает женщин неизменно стыдливыми и покорны-ми»90. Феминистский уклон виден здесь со-вершенно отчетливо: в контрастном изображе-нии греховных мужчин и добродетельных женщин, сохраняющих контроль над любой

Театрон [1•2012]
98
ситуацией, легко читается основная идея спек-такля.
Однако «Силаппадхикарам» не менее интересное произведение и с другой точки зрения. «Эта история имеет прямое отношение к кудияттаму, поскольку в ней содержится одно из самых ранних упоминаний о чакья-рах»91. Это может служить одним из объясне-ний того, почему тамильская эпическая поэма стала источником сюжета для нангьяр-кутту: в ней рассказывается о том, как «Сенгуттуван, самый известный царь из династии Чера, воз-вращался из удачного военного похода на Се-вер, а Чакьяр из Паравура, что в Северном Траванкоре, развлекал и его самого, и его двор посредством „кутту“ — драматического танца на тему мифа о сожжении Трипуры богом Ши-вой»92. Таким образом, тамильская поэма ока-зывается источником бесценных сведений о театре. «После Натьяшастры Бхараты нет другой работы, в которой говорилось бы о тан-це и музыке на субконтиненте, за исключением Силаппадхикарам… и любая другая работа, по-следовавшая за Натьяшастрой на севере, поя-вилась лишь спустя несколько столетий… <…> Силаппадхикарам… подробно излагает как классическую, так и фольклорную форму в практике исполнительских искусств»93. По-добно второй главе «Натьяшастры», которая посвящена описанию обряда основания театра, «в комментарии к Силаппадхикарам подробно
описывается постройка сценической площадки для танцев»94. Кроме того, в поэме «упомина-ются танцы, основанные на историях о Кришне. <…> Силаппадхикарам — это не поэтическое описание деяний Кришны, а реальное актерское исполнение этих деяний…»95. А это уже отсы-лает нас к возникновению нангьяр-кутту. Хотя одна из героинь, танцовщица Мадхави, и не является актрисой-нангьяр, ее исполнитель-ский путь чем-то похож на воспитание девочек в кудияттаме: «Мадхави… начала упражняться в возрасте пяти лет и после семи лет усердия и суровой практики представила свой талант царю, который был большим знатоком танце-вальной техники»96. Танцы, исполняемые Мадхави во время праздника Индры, длятся не один день, и после завершения праздника она возвращается к Ковалану усталая, но торже-ствующая, так как царь щедро наградил ее.
Как видно из истории Канаки и других персонажей «нового нангьяр-кутту», индий-ские женщины еще не окончательно побороли тиранию мужчин. «К счастью, женщины-актрисы имеют пространство для самовыраже-ния — сцену („вторую работу“), где они могут реализовать свои желания. Посредством таких мятежных персонажей, как Драупади, Канаки и Мадхави исполнительницы тихо кричат о своих страданиях и подавленности»97.
Продолжение следует
1 Banham M. The Cambridge Guide to Theatre. Cambridge, 1998. P. 522.
2 См.: Ватсьяян К. Наставление в искусстве театра: «Натьяшастра» Бхараты. М., 2009. С. 188.
3 Casassas С. Female Roles and Engagement of Women in the Clas-sical Sanskrit Theatre Kūtiyāttam: A Contemporary Theatre Tradition. Р. 5. (Неопубликованная статья, предоставленная г-жой К. Казас-сас, хранится в личном архиве автора.)
4 Аттапракара (или аттапра-карам) — слово языка малаялам, означающее «руководство по ис-полнению». Один из брахманов Кулашекхары создал такое руко-водство на санскрите (Вьянгья-вьякхья). Толан же писал на ма-
лаялам. Толан, как и его господин, считается создателем кудияттама, в котором санскритские пьесы ис-полняются особым образом в со-ответствии с руководствами по актерской игре, которые называ-ются крамадипика и аттапракара (см.: Datta A. The Encyclopaedia Of Indian Literature.Vol. 1. New Delhi, 1987. Р. 268).
5 Tarlekar G. H. Studies in the Nāṭyaśāstra: With Special Reference to the Sanskrit Drama in Perfor-mance. Delhi, 1999. Р. 248.
6 Раджа Кулашекхара написал две пьесы: «Субхадра дхананджай-ям» (о свадьбе принцессы Субха-дры и принца Арджуны) и «Тапа-ти самваранам» (о дочери Солнца Тапати и царе Самваране), кото-рые исполняются и в наши дни.
7 Moser H. Nannyar-Kuttu — ein Teilaspekt des Sanskrittheaterkom-plexes Kutyattam. Wiesbaden, 2008. Р. 117.
8 Ibidem. Р. 88.9 См.: Madhavan А. Kudiyattam
Theatre and the Actor’s Conscious-ness. Amsterdam; NY, 2010. P. 144.
10 Шлока — это древнеиндий-ский санскритский эпический стихотворный размер. Состоит из тридцати двух слогов: двустишие из двух строк по шестнадцать слогов делится на четыре полу-строки по восемь слогов. Шлоками написаны великие произведения древней и средневековой индий-ской литературы начиная с «Ма-хабхараты».
11 Casassas С. Female Roles and Engagement of Women in the Clas-
Примечания

Виды театра
99
sical Sanskrit Theatre Kūtiyāttam: A Contemporary Theatre Tradition. Р. 2.
12 Madhavan А. Kudiyattam The-atre and the Actor’s Consciousness. P. 132.
13 Гайда И. В. Китайский тради-ционный театр сицюй. М., 1971. С. 53.
14 The World Encyclopedia of Contemporary Theatre. Vol. 5. Asia / Ed. D. Rubin. London, 1998. P. 251.
15 Рыжакова С. И. Индийский танец — искусство преображения. М., 2004. С. 52.
16 Там же. С. 63.17 Daugherty D. The Nangyār:
Female Ritual Specialist of Kerala // Asian Theatre Journal. 1996. Vol. 13. № 1. P. 54–67.
18 Casassas С. Female Roles and Engagement of Women in the Clas-sical Sanskrit Theatre Kūtiyāttam: A Contemporary Theatre Tradition. Р. 2–3.
19 Ibidem. P. 3.20 Post J. Changes in the late nine-
teenth century // Women and music in cross-cultural perspective. Illinois, 1987. P. 104.
21 Впервые за пределами кут-тамбалама кудияттам был испол-нен в 1949 году. См.: Pisharath S. Koodiyattam // Sruti Ranjani. 2004. Vol. 14. № 1. P. 15.
22 Casassas С. Gender, Space and Resistance: Women’s Theatre in India. Р. 2. (Неопубликованная статья, предоставленная г-жой К. Казассас, хранится в личном архиве автора.)
23 Ibidem. Р. 5.24 Ibidem.25 Шринатх Наир подробно
анализирует творческий метод У. Нангьяр с точки зрения при-менения в нем дыхания. См.: Nair S. Restoration of Breath: Conscious-ness and Performance. Amsterdam; NY, 2007. P. 126–135.
26 Пураппад — это сценическое действо, предваряющее представ-ление, своего рода пролог или всту-пление. Катьяяни — одно из имен богини Дурги или Бхагавати. Пе-ревести название можно либо «Пу-раппад о Катьяяни», либо «Выход Катьяяни».
В традиции кудияттама костюм Катьяяни-Дурги, «хотя и женский, включает в себя корону. Кайма лицевого грима у нее темная. В ру-ках у нее лук и стрела. В остальном костюм такой же, как у героини» (Tarlekar G. H. Studies in the Nāṭyaśāstra: With Special Reference to the Sanskrit Drama in Perfor-mance. Delhi, 1999. P. 255).
27 Casassas С. Gender, Space and Resistance: Women’s Theatre in India. Р. 5.
28 К. Казассас сообщила, что в 1992 г. Нирмала Паникер опу-бликовала книгу о нангьяр-кутту, куда вошел перевод «Сказания о Кришне» («Шрикришначари-там») на английский язык (Pani-ker N. Nangiar koothu. Natana Kai-rali, 1992).
29 India International Centre quar-terly. Vol. 22. Delhi, 1995. P. 109–110.
30 Winternitz M. A History of In-dian literature. Vol. III. Delhi, 1998. Р. 181.
31 Рыжакова С. И. Готовящие и вкушающие при свете масляной лампы // Восточная коллекция. 2006. № 1. С. 130.
32 Subramanyam L. Folk Forms and Contemporary Theatre: An In-terview with B. Jayashree // Muffled voices: women in modern Indian theatre. New Delhi, 2002. Р. 246–269.
33 Джайяшри Басаварадж (бо-лее известная в Индии просто как Б. Джайяшри), внучка знаменито-го индийского театрального актера Губби Виранна, дебютировала на сцене и на экране в возрасте четы-рех лет. В 1973 г. она окончила Национальную Театральную Ака-демию. Снималась в кино (в том числе в фильмах на языке канна-да), выступала как актриса и певи-ца. С 1976 г. она работала испол-нительным директором в банга-лорской театральной труппе Спан-дана, поставила и сыграла более пятидесяти спектаклей. В 2009 г. удостоилась почетной докторской степени в Карнатакском Универ-ситете, а в 2010 г. стала членом парламента Индии.
34 Драупади — героиня «Махаб-хараты», земное воплощение боги-ни счастья Лакшми, супруги Виш-
ну (или, по более древним пред-ставлениям, — Индры). Дочь царя панчалов Друпады, жена всех пя-терых царевичей Пандавов, носит также имя Панчами («имеющая пятерых мужей»). Из-за темного оттенка кожи носит также имя Кришна («черная»).
35 Сваргарохини — горный мас-сив в Гималаях, куда (по мифу) отправились Пандавы, Драупади и их собака, где все они умерли и были взяты на небеса.
36 Сваямвара — выбор жениха. Полиандрия Драупади в «Махаб-харате» объясняется тем, что мать Пандавов, царица Кунти, ошибоч-но поняв их слова о возвращении с богатой добычей, велела им поль-зоваться ею совместно. Всеведу-щий Вьяса предложил возмущен-ному отцу невесты мифологизиро-ванное объяснение: в прошлой жизни Драупади пять раз просила Шиву о супруге, а потому в этой жизни получила сразу пятерых.
37 Вастрахаран («срывание одежд») — эпизод из «Махабхара-ты», известный как «Оскорбление Драупади». Старший брат Юд-хиштхира проиграл в кости царю Дурьодхане и царство, и братьев, и самого себя, и Драупади. Млад-ший брат Дурьодханы, Духшасана, хотел публично раздеть «рабыню» Драупади, но от позора ее спас сам божественный Кришна.
38 Арджуна («сияющий, яркий во всем») — третий по старшин-ству из братьев Пандавов. Носит еще имя Дхананджая, «завоеватель богатств» (под этим именем высту-пает в пьесе Кулашекхары «Суб-хадра дхананджайям»), и еще во-семь имен. Военный лидер Панда-вов. Именно он завоевал Драупади во время сваямвары, натянув, по-добно Одиссею, богатырский лук. Самый любимый муж Драупади.
39 Бхима («ужасный») или Бхи-масена — второй по старшинству из братьев Пандавов, самый силь-ный из них.
40 Дхармараджа («Царь Спра-ведливости») — одно из имен старшего из братьев Пандавов, Юдхиштхиры.
41 Вина — старинный индий-ский щипковый классический

Театрон [1•2012]
100
музыкальный инструмент, счита-ющийся трудным для освоения.
42 Духшасана выволок прои-гранную в кости Драупади за во-лосы в царский зал с криком «Ра-быня!». Драупади распустила во-лосы и поклялась не заплетать их вновь, пока не омочит их кровью обоих — и Дурьодханы, и Духша-саны.
43 Subramanyam L. Folk Forms and Contemporary Theatre: An In-terview with B. Jayashree // Muffled voices: women in modern Indian theatre. P. 257.
44 Наиболее подходящим пере-водом на русский язык (с учетом сюжета) представляется что-нибудь вроде «Томление».
45 Рыжакова С. И. Индийский танец — искусство преображения. С. 18.
46 Альбедиль М. Ф. Праздники в южной Индии // Индийские праздники: общее и локальное в календарной обрядности. СПб., 2005. С. 131.
47 Театр Спандана основан в 1976 г. (Бангалор, штат Карна-така). Спектакли играются на языке каннада. Используются, комбинируются и варьируются различные фольклорные театраль-ные формы. Официальный сайт: http://spandanatheaters.com/index.html (дата обращения 08.12.11).
48 Casassas С. Gender, Space and Resistance: Women’s Theatre in India. Р. 15.
49 Гринцер П. А. Избранные про-изведения: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 67.
50 Эгрет (фр. aigrette) — в деко-ративно-прикладном искусстве — дорогая заколка для одежды и во -лос из бронзы или золота с чекан-кой, гравировкой, эмалями или драгоценными камнями.
51 По легенде Шактибхадра про-чел пьесу своему учителю по имени Шанкарачарья (Ади Шанкара, 788–820 гг. — мыслитель, религи-озный реформатор, мистик и поэт), но тот в течение целого года хра-нил молчание. В отчаянии Шак-тибхадра сжег пьесу. По проше-ствии года Шанкара нарушил молчание и спросил о пьесе. Шак-тибхадра признался в содеянном.
И тогда великий учитель воспро-извел пьесу целиком по памяти (см.: The Encyclopaedia оf Indian Literature. Vol. 5. New Delhi, 1992. Р. 3963).
52 Гринцер П. А. Избранные про-изведения. Т. 1. С. 67.
53 Pruthi R. K. The Classical Age. New Delhi, 2004. Р. 121.
54 Nandini Ramani: Sanskrit is a vibrant and glorious language: Interview. December 17, 2008. URL: http://www.narthaki.com/info/in-tervw/intrv109s.html (дата обра-щения 29.12.11).
55 Н. Рамани подготовила к из-данию в Центре труды своего отца, литературоведа Венкатарамана Рагхавана (1908–1979), который написал около ста двадцати книг и более тысячи статей.
56 Академия музыки, танца и дра-мы «Сангит Натак Академи» осно-вана 28 января 1953 г. Официаль-ный сайт: http://sangeetnatak.gov.in/sna/home.htm (дата обращения 08.01.12).
57 Шурпанакха — ракшаси, се-стра демона Раваны, влюбившаяся в Раму и жестоко наказанная за свои притязания Лакшманой, от-рубившим ей нос и уши.
58 Нарада — полубожественный индуистский мудрец, которого причисляют к семи великим му-дрецам (сапта-риши). Он известен тем, что предрек грядущее рожде-ние Кришны и первым научил людей математике, астрономии и земледелию. Ему приписывают несколько гимнов «Ригведы».
59 The Encyclopaedia оf Indian Literature.Vol. 5. Р. 3964.
60 Madhavan А. Kudiyattam The-atre and the Actor’s Consciousness. P. 132.
61 Casassas С. Female Roles and Engagement of Women in the Clas-sical Sanskrit Theatre Kūtiyāttam: A Contemporary Theatre Tradition. Р. 13.
62 Casassas С. Gender, Space and Resistance: Women’s Theatre in India. Р. 5.
63 Casassas С. Female Roles and Engagement of Women in the Clas-sical Sanskrit Theatre Kūtiyāttam: A Contemporary Theatre Tradition. Р. 13.
64 Ibidem.65 Ibidem. Р. 13–14.66 The Encyclopaedia оf Indian
Literature.Vol. 5. Р. 3964.67 Casassas С. Female Roles and
Engagement of Women in the Clas-sical Sanskrit Theatre Kūtiyāttam: A Contemporary Theatre Tradition. Р. 14.
68 Casassas С. Gender, Space and Resistance: Women’s Theatre in India. Р. 9.
69 Shulman D. D. Spring, heat, rains: a South Indian diary. Chicago, 2009. P. 27.
70 Ченнай (до 1996 г. Мадрас) — город на юге Индии, админи-стративный центр штата Тамил-над.
71 Casassas С. Female Roles and Engagement of Women in the Clas-sical Sanskrit Theatre Kūtiyāttam: A Contemporary Theatre Tradition. Р. 8, 11.
72 Casassas С. Gender, Space and Resistance: Women’s Theatre in India. Р. 7.
73 Ibidem. P. 11.74 Ibidem. P. 12.75 Ibidem. Р. 13.76 Прабандха-кутху — это «соль-
ное мужское устное повествование чакьяра» (см.: Madhavan А. Kudi-yattam Theatre and the Actor’s Con-sciousness. P. 24).
77 Gopalakrishnan S. Kutiyattam. URL: http://ignca.nic.in/kuti0001.htm (дата обращения 22.12.11).
78 Madhavan А. Kudiyattam The-atre and the Actor’s Consciousness. P. 42–43.
79 Судха Гопалакришнан — ав-тор статей о кудияттаме и книги «Kutiyattam: The Heritage Theatre of India». Niyogi Books, 2011.
80 Gopalakrishnan S. Kutiyattam. URL: http://ignca.nic.in/kuti0001.htm (дата обращения 22.12.11).
81 Casassas С. Gender, Space and Resistance: Women’s Theatre in India. Р. 13–14.
82 Pandian J. Caste, nationalism and ethnicity: an interpretation of Tamil cultural history and social order. Bombay, 1987. P. 51.
83 Pattanaik D. The Man Who Was a Woman and Other Queer Tales from Hindu Lore. NY., 2002. Р. 102.

Виды театра
84 Pandian J. Supernaturalism in Human Life: A Discourse on Myth, Rituals and Religion. New Delhi, 2002. Р. 166.
85 Thirumaavalavan, Kandasamy M. Talisman: Extreme Emotions of Dalit Liberation. Mumbai; Delhi; Kolkata, 2003. P. 60.
86 Manavalli K. K. Invented tradi-tions and regional identities: A study of the cultural formations of South India, 1856–1990s. Michigan, 2008. P. 127.
87 Thirumaavalavan, Kandasa-my M. Talisman: Extreme Emotions of Dalit Liberation. P. 60.
88 Casassas С. Female Roles and Engagement of Women in the Clas-sical Sanskrit Theatre Kūtiyāttam: A Contemporary Theatre Tradition. Р. 14.
89 Casassas С. Gender, Space and Resistance: Women’s Theatre in India. Р. 17.
90 Ibidem. P. 18.91 Casassas С. Female Roles and
Engagement of Women in the Clas-sical Sanskrit Theatre Kūtiyāttam: A Contemporary Theatre Tradition. Р. 31.
92 Marg (Pathway). A Magazine of the Arts. Mumbai, 1957. Vol. 11. P. ii.
93 The Encyclopaedia оf Indian Literature. Vol. 5. Р. 4100.
94 Ramaswami Sastri K. S. Hindu culture and the modern age: Special lectures delivered at the Anna-malai University. Annamalai, 1956. P. 324.
95 Varadpande M. L. History of Indian Theatre. Loka Ranga. Pan-orama of Indian folk Theatre. New Delhi, 1992. P. 256.
96 Kumar R. Essays on Indian Music. New Delhi, 2003. Р. 92.
97 Casassas С. Gender, Space and Resistance: Women’s Theatre in India. P. 16.

102
«Вероятно, именно Мейерхольд — то лицо, та судьба, тот способ творчества, узнавая кото-рый можно понять общие законы художествен-ной культуры»1 — слова Инны Соловьевой, словно яркие лучи софитов, освещают беседу со зрителями Л. С. Вивьена о В. Э. Мейерхоль-де2. «Беседа» Вивьена — документ! Многослой-ное свидетельство актера, режиссера, педагога, прошедшего путь в творчестве более долгий, чем Учитель, в жизнь и судьбу которого он углубляется сам и погружает чутких слушате-лей. Это документ, воссоздающий пору Мейер-хольда в Александринском театре; документ эпохи «оттепели»; документ взаимовлияния театров разных стран; и, наконец, документ, отражающий воздействие личности Мейер-хольда на творчество людей театра ХХ века. Истина в искусстве не принадлежит какому-то одному человеку, она зарождается и подает свой голос благодаря бесконечному обмену мнениями, идеями, творениями многих и мно-гих созидателей, выковывается в противо-речиях и проявляется в догадках, в живой ткани произведений, в предчувствиях и узна-ваниях. Так же неоспоримо бесценны при этом само бытие факта и глубокое проникновение в него, ценны оживающие подробности худо-жественного явления и окружающего его контекста, порой забытые, поглощенные вре-менем, съеденные обстоятельствами, вы-травленные теми, кто «точно знает», что и как надо, властями предержащими, устанавли-вающими идеологические препоны или удо-влетворяющими свои прихоти и личные ам-биции.
«Беседа» Вивьена не панегирик, не краси-во вырисованная «визитная карточка» гения — это серьезное раздумье о режиссере-творце, неуемном искателе, подчас ошибающемся, но не останавливающемся в своем стремлении к истине, верящем в ее приближение, одари-вающем театр бесконечным множеством твор-ческих озарений.
Вивьен приветствует откровения режис-сера-творца, чувствует его дыхание, как дыха-ние охотника, вставшего на след зверя, горит темпераментом героя своего повествования. Но вместе с тем он отмечает и не приемлемое им самим, Леонидом Сергеевичем Вивьеном. Для Вивьена в «Беседе» со зрителями совершенно иного — не мейерхольдовского — времени пре-жде всего ценен живой герой — человек будто вот здесь, сейчас творящий. Вивьену удается оживить трепетную материю созидательных исканий, колоритных созданий Мейерхольда. Голос Вивьена — поначалу отстраненный, сухо докладывающий о первом десятилетии про-фессионального пути Мастера (1898–1908 годы), постепенно окрыляется, набирается сил — это уже голос ученика верящего, актера восторгающегося, прошедшего вместе с Учите-лем восхитительное десятилетие (1908–1918 годы), это уже голос соратника, создающего в содружестве с Мейерхольдом неповторимую театральную школу3. Понемногу голос рас-сказчика меняется — слышатся размышления творца, припавшего к живительному источни-ку откровений другого творца. В конце слы-шится трагический голос человека, потерявше-го Друга, Учителя, Властителя дум.
Л. С. Вивьен не однажды обращался к вос-поминаниям о В. Э. Мейерхольде. Известно его выступление на вечере памяти Мейерхольда, состоявшемся в Ленинградском государствен-ном институте театра, музыки и кинематогра-фии 2 марта 1964 года, впервые опубликован-ное в 1973 году в «Сценической педагогике» и полностью повторенное в сборнике, посвя-щенном памяти Вивьена, в 1988 году4. В том же сборнике была помещена литературная запись беседы с Вивьеном «Воспоминания и размыш-ления», осуществленная в 1964 году Г. З. Мор-дисоном, в которой деятельности Мейерхольда в Петербурге отведены несколько разрознен-ных абзацев5. 6 февраля 1957 года — Л. С. Ви-вьен впервые выступил с повествованием о Мей-
Л. С. Вивьен
<О «заветах» Мейерхольда>Публикация, вступительная заметка и комментарии Ю. А. Васильева

Мастера
103
ерхольде. Эта беседа, проходившая в Доме актера, давно ушла в забытье и никогда не вос-производилась в печати. Между тем она наи-более полно передает глубокие впечатления Вивьена о Мейерхольде, о его творчестве и, что немаловажно, о ценностях, «завещанных» Мейерхольдом мировому театру.
В читальном зале библиотеки петер-бургского отделения СТД сохранились два экземпляра стенограммы этой беседы. На титульном листе значится: «Беседа со зрите-лями о В. Э. Мейерхольде народного артиста СССР Л. С. Вивьена. 6-го февраля 1957 г.». В один из экземпляров рукой Вивьена внесе-ны обильные правки черными чернилами. Начинаются правки с середины шестой стра-ницы и завершаются в конце страницы тридца-той. Корректирования не касаются вступи-тельных слов, в которых Вивьен кратко излагает допетербургский период жизни Мейерхольда, и не распространяются на за-вершающие стенограмму высказывания Ви-вьена, являющиеся ответами на вопросы с мест и записки из зала.
Мы сочли полезным опубликовать текст «Беседы» Вивьена о Мейерхольде в полном объеме. К середине 1950-х годов творчество Мейерхольда, будучи вычеркнутым из истории театра, было скорее звуком прошлого, чем ре-альностью истинного творчества. Противников у эстетики Мейерхольда во все периоды его служения театру было достаточно, и смеем предположить, что для кого-то его деяния не укладывались в реалистические и психологи-ческие установки социалистического театра, а потому исчезновение его имени из театраль-ного пространства было бальзамом на душу. Пропагандистская машина опорочила имя Мейерхольда бесчисленными критическими статьями и разгромными подвалами. Для новых поколений зрителей, для актеров и режиссеров среднего и молодого возраста к моменту реаби-литации Мейерхольд стал образом туманным, расплывчатым, существующим в каком-то другом измерении.
Все же отдельные сокращения «Беседы» показались нам необходимыми. Это касается второй части стенограммы: вопросов и ответов. Некоторые вопросы не вписываются в тему «Беседы», касаются других театральных имен. Эти вопросы и ответы на них в публикацию не включены.
Отрадно сознавать, что публикацию «Бе-седы» мы осуществляем в год 125-летия со дня рождения легендарного актера, режиссера и театрального педагога Л. С. Вивьена (1887–1966), посвятившего более шестидесяти лет жизни петербургскому-петроградскому-ленинградскому театру.
Самую горячую благодарность мы выра-жаем директору библиотеки Санкт-Петербург-ского отделения СТД Марине Юзефовне Ко-маровой и заведующей рукописным отделом Вере Михайловне Мироновой за большую по-мощь в подготовке стенограммы к публикации и в составлении комментариев.
Стенограмма беседы Л. С. Вивьена о В. Э. Мейерхольде6 февраля 1957 г.
IВ прошлый раз мне задали тему — погово-
рить о Мейерхольде. Я не буду пытаться взять на себя роль всестороннего исследователя дея-тельности Всеволода Эмильевича Мейерхоль-да, а больше всего будут рассказывать о том периоде, который, вероятно, менее известен молодым товарищам. Но я также попробую коснуться и всей его деятельности и высказать те или иные соображения.
В. Э. Мейерхольд родился в 1874 году, 28 января, в городе Пензе. Отец его был гер-манским подданным, выходцем из Германии и при рождении Мейерхольд получил имя Карл-Теодор-Казимир Мейергольд. Отец его был владельцем водочного и винокуренного завода. Мать его была музыкантшей, любящей искусство и театр. У них в доме бывали всегда все приезжие гастролеры.
Шли гимназические годы ученья. Его увлечение театром началось с юного возраста. Он начал свою деятельность в гимназиче-ском возрасте. Пробовал писать рецензии на виденные им спектакли. Еще в юном воз-расте началась его актерская деятельность. Он был театральным любителем. Сыграл в юные годы Репетилова и Кутейкина6. В то же вре-мя он стал проявлять способности к режиссуре. В 1895 году, окончив гимназию, поступил на юридический факультет Московского универ-ситета. Здесь известно его увлечение Малым театром7, что было вполне типично для своего времени. Малый театр был прогрессивным

Театрон [1•2012]
104
театром. Он был вторым Университетом. В то же время он посещал спектакли общества «Искусство и литература»8. Отдал дань вос-хищения Станиславским9. Сам пробовал иг-рать, приезжая на лето в Пензу, и решил твердо посвятить себя театру и идти на сцену.
В 1896 году он был принят сразу на 2-й курс знаменитого в Москве Филармоническо-го училища10 по классу драмы Немировича и Федотова11.
В тот период в Москве он увлекался на-ряду с этим симфонической музыкой12, Неми-рович даже называл его явлением исключитель-ным среди учеников13.
Затем настал период, когда ему нужно было уже зарабатывать на жизнь. В 1898 году он вступил в труппу МХТ. Попал в период репетиций «Пушкина»14. Он играл ряд ролей: Принца Арагонского в «Венецианском купце» [У. Шекспира], Треплева в «Чайке» [А. Чехо-ва], Шуйского в «Царе Федоре» [А. К. Толсто-го], Маркиза Форлипополи в «Трактирщице» [К. Гольдони], Мальволио в «Двенадцатой ночи» [У. Шекспира], Иоганна Фокерата в «Оди-ноких» [Г. Гауптмана] и т. д.
В 1902 году он покинул МХТ и, желая самостоятельной деятельности, отправился в Херсон, где создал Товарищество Новой драмы15. Уйдя из МХТ и полный впечатления-ми от МХТ и желанием проявления собствен-ной инициативы, он в период пребывания в Херсоне создавал театр ансамбля, наподо-бие МХТ. Он отдал громадную дань увлече-нию модернистской литературой: Ибсеном, Гауптманом, Пшибышевским, Метерлинком и др.16 Так прошел сезон 1903/1904 гг. Затем Товарищество Новой драмы переехало в Тиф-лис17, продолжались спектакли типа МХТ, которые довольно хорошо описывает Пев-цов18 в своих воспоминаниях. Это был очень интересный сезон, резко не похожий на все так называемые профессиональные сезоны. Театр имел настоящего режиссера, смогшего созда-вать ансамбль, умеющего объединить труппу воедино и ставить целостные спектакли. Успех этих спектаклей был абсолютный.
Тут же начались его опыты в области сим-волистического жанра.
В 1905 году студия при МХТ19. Началась его работа с Судейкиным20, Сапуновым21 и др. Здесь произошло сближение с Брюсовым, Балтрушай-тисом22, Ремизовым23 и всей группой символистов.
В 1905 году его студия, не успев расцвести, была закрыта в связи с событиями 1905 года и ввиду его разногласий с МХТ, ибо она счита-лась студией МХТ и МХТ решил, что пути их настолько различны, что эта студия не может быть метрополией МХТ.
Интересно то, что Мейерхольд в этот пе-риод поднял громко голос о том, что театр вне современной и интересной литературы, театр, строящийся на посредственной драматургии, театр, попавший в плен натурализма и некоего «психоложества», раскрытия во имя раскры-тия, «я» во имя «я» — не нужен. Он понимал «психоложество» не как выражение поведения, а как чрезмерное увлечение внутренним ми-ром — все внутри меня и пр. Начался период, когда Мейерхольд стал объявлять бунт против такого театра.
В 1906 году он переехал в Петербург и сра-зу же сблизился с кружком Вячеслава Иванова, Федора Сологуба, Чулкова, Блока и др.
В этот период Мейерхольд уже зарекомен-довал себя как интересный режиссер, как чело-век, стремящийся к чему-то новому в театре. В его творчестве ясно ощущался протест про-тив натурализма в театре и, как говорил Мей-ерхольд, «психоложества»24. Это было, безу-словно, левое крыло в нашем искусстве. Тогда все, что не умещалось в понятие натурализма и бытовизма, начинало называться «левым».
Именно в это время Мейерхольд и при-влек внимание выдающейся русской актрисы и вообще крупнейшей актрисы в истории на-шего театра — Веры Федоровны Комиссаржев-ской, которая, не ужившись в стенах импера-торских театров, ушла25. Она говорила, что не видит дальнейшего своего пути, не может сто-ять на одном месте и поэтому покидает сцену императорского театра. Ее уход не был связан с интригами. Конечно, как и в каждом театре, там были свои дела, но не это основное, и нель-зя на фигуру Комиссаржевской смотреть мелко и думать, что из-за каких-то бытовых дрязг она ушла. Она ушла как ищущая <актри-са>, как человек, устремленный вперед. Она хотела чего-то иного, хотела что-то пробовать. И поскольку направленность модернистской литературы, символисты казались тогда ре-волюционными, левее натуралистического направления, царившего в театре, естественно, ей хотелось искать именно в этом направлении. И Комиссаржевская приглашает Мейерхольда,

Мастера
105
и в 1906 году он появился в Петербурге как идейный руководитель театра, находящегося на Офицерской улице (ныне ул. Декабристов), театра Комиссаржевской. Этот период я застал, все остальное для меня — область истории, так как очевидцем всего этого я не был. И весь период его деятельности в 1906–1907 годах и с 1908 по 1917 годы в Александринском теа-тре проходил на моих глазах, и этому я живой свидетель.
Что ж произошло в театре Комиссаржев-ской?
Репертуар театра был: «Сестра Беатриса» [М. Метерлинка], «Гедда Габлер» [Г. Ибсена], «Балаганчик» [А. Блока], «Жизнь человека» [Л. Андреева], «Свадьба Зобеиды» [Г. фон Гофмансталь], «Кукольный дом» [Г. Ибсена]26. Нору Комиссаржевская играла и раньше27.
Как характеризовать этот путь исканий Мейерхольда? Крепнет его убеждение и вера в то, что режиссура в театре — профессия, тре-бующая безукоризненного знания работы с ак-тером. (Работе с актером он, конечно, научил-ся у Станиславского.) Мейерхольд считал, что спектакль можно вырастить только как целост-ное явление, только имея определенную цель, четкую линию и подчиняя этой цели все ком-поненты театра.
Он впервые по-настоящему ввел в театре работу режиссера с художником и компози-тором. Поскольку драматургия в руководи-мом им театре была не бытовая, а преимуще-ственно декадентская, символистская (это, конечно, условное определение), то и средства выражения для этой драматургии он искал иные, чем для осуществления бытовой пьесы. Впервые в театре Комиссаржевской появил-ся занавес как элемент спектакля. Появился просцениум. Мейерхольд вводит в спектакль свет прожектора, свет из лож. Некоторые спек-такли в театре Комиссаржевской игрались при освещенном зрительном зале. Появляются отдельные условные приемы игры. В отдельных моментах спектакля вводится общение актера со зрителем. Появилось не только понима-ние общения между двумя актерами с выклю-чением всего остального, что было типично для театра Станиславского, а он считал, что есть третий момент — зритель. Он говорил: «Когда сидят два актера в профиль, то мне это напо-минает двух одноглазых камбал. Я хочу ви-деть два глаза, и чрез эти два глаза я, как зри-
тель, хочу общаться с актерами. Общение только впрямую — галиматья. Смотря в одном направлении, я могу общаться с тем, кто стоит сзади меня». Этот прием вам, наверно, изве-стен. Им блестяще владеют в театре Жана Вилара28.
Мейерхольд делал такое упражнение — говоря вам: общайтесь с тем человеком, а тот, смотря на меня, должен общаться с вами.
В театре Комиссаржевской им впервые на русском театре была применена условная де-корация. Долой декорационный бытовизм. Долой ненужные предметы. На сцене должно быть только то, что характерно для спектакля, для акта. Должны быть ударные моменты акта, центр акта, и этому помогают все компоненты29.
Например «Свадьба Зобеиды». Через стек-ло был показан роскошный фантастический сад. Затем везде были оранжевато-коричнева-того цвета сукна. Затем сундук, который бли-стал, как слиток золота от лучей света, обра-щенных на него. Сбоку стояло ложе и больше ничего.
«Гедда Габлер». Открывается занавес, и вы видите художника на сцене. Художник являет-ся спутником режиссера и выражает то, что нужно по мысли данного спектакля. Сукна серо-голубоватого цвета. Белый рояль. Фрагменты камина, кресло; и у этого рояля стоящая во всем белом с золотыми волосами Гедда Габлер. Это было абсолютно ново для театра начала 1900-х годов. Этого нигде не было показано.
Что тут поучительного для нас? Мировоз-зренчески это не было прогрессивно и нельзя сказать, чтобы Мейерхольд был тогда, с нашей точки зрения, революционер, но в области теа-тра и театральной техники это было резкое движение вперед. <…> Новые требования к ак-теру предъявлялись и в дальнейшем в студии на Бородинской.
Я был в то время только зрителем, студен-том, приехавшим в Петербург и ходившим в этот театр <на Офицерской>. Как все студен-ты, тогда я увлекался левым искусством. В «Ба-лаганчике», через общение актера со зрителем я видел отношение актера к тому образу, кото-рый он играет. Как любил говорить Мейер-хольд: «Чтобы зритель не думал, что это серьез-но, что вы говорите с партнером, подмигните-ка ему левым глазом».
Мейерхольд вносил в театр элемент заботы о форме, о максимальной выразительности,

Театрон [1•2012]
106
требовал рождения закона произнесения <текста>. Бытового отношения к тексту ни в коем случае не должно быть. Элемент закон-ного отношения к авторскому тексту у него стоял на первом плане. <…>
Известна его статья «Условный театр»30, где Мейерхольд утверждал, что чувство нельзя играть, а чувство должно рождаться. Мейер-хольд ненавидел так называемую чувствитель-ность на сцене. Он говорил, что текст никогда не должен быть заражен никакими чувствиями, что текст должен быть отточен и должен лететь, как в бездонную пропасть с резонансом или на бесконечность вперед. Такое отношение к сло-ву и вырабатывалось. Это особенно интересно сказалось на Комиссаржевской. Она потеряла себя в этот период как «актриса переживаний». И пошла именно по этой линии. На ней это плохо отразилось, несмотря на то, что в неко-торых звеньях она Нору стала играть значи-тельно менее интересно. Когда она вернулась потом к Норе, то в ней произошло некое новое рождение, которое я видел. В тот период у Ко-миссаржевской был совершенно замечатель-ный голос, неповторимый голос исключитель-ной глубины и замечательные глаза, при внешности, не представлявшей ничего особен-ного. Ее глаза и голос были потрясающие. Мейерхольд накладывал безжалостные оковы на артиста во имя своих экспериментов. Когда она играла у него «Сестру Беатрису», то в те моменты, когда она оставалась вне этих оков, она потрясала.
Сестра Беатриса — монахиня — девушка. Она молится перед статуей Беатрисы, мечтая о счастье. Она прощается с монастырем и ухо-дит в мир. Там она получает полное разочаро-вание, возвращается в монастырь, и перед этой же статуей святой Беатрисы происходит ее раскаяние и смерть. Комиссаржевская эту сце-ну играла независимо от канонов, и она потря-сала. Тут-то и произошел ее разрыв с Мейер-хольдом. Она не нашла в новом режиссере то, чего искала для своей души, для своего таланта. То есть для своего раскрытия, а не закрытия во многих случаях и подчинения определенным законам, которые вводил Мейерхольд. И она сказала — это новое искусство, не мое искус-ство. На этом у них произошел разрыв.
С точки зрения новизны в актерской тех-нике, новизны требований к актеру и к оформ-лению, с точки зрения использования музыки,
света и других компонентов — начало, поло-женное Всеволодом Мейерхольдом, существу-ет в театре и по сегодняшний день. И тем, кто старается выдать это за свое, я все равно не верю. Надо так и говорить — использовал Мей-ерхольда, но пытался сделать по-своему. Этому я буду аплодировать. А тем, кто говорит — я это открыл, — не верю. Видел.
Затем начался новый период жизни Мей-ерхольда. После разрыва с Комиссаржевской — императорская сцена31. <…>
Я увидел первый спектакль «У врат цар-ства»32, поставленный Мейерхольдом, с галер-ки Александринского театра, будучи студентом. Тут все было сделано в гораздо более осторож-ной форме. Он понимал, что сделать все, что он хочет, сразу на императорской сцене — дело невозможное. В «У врат царства» произошла встреча Мейерхольда с Головиным33. Декора-ции были великолепные. Было стремление во всем найти некую внешнюю красивость. Мно-гое приносилось в жертву красивости, и здесь возникло некое несоответствие между пьесой Гауптмана, которая никакой красивости не требовала, и теми декорациями, которые были сделаны. Главные роли играли Аполлонский34, в душе протестант, Потоцкая35 и тогда молодой Ходотов36. Мейерхольду не удалось пронести в спектакль то, что он хотел, и спектакль успе-ха не имел. Для молодого студенческого глаза это было интересно, а для Александринского театра абсолютно непривычно. Хотя там ника-ких просцениумов не было и особой условности тоже не было. Там была срединка на половинку.
Одним из первых поставленных им спек-таклей, где мне пришлось играть, был «Шут Тантрис» Хардта37. Это была работа очень ин-тересная, и здесь Мейерхольд впервые вводил законы режиссуры. В этом спектакле была ве-ликолепная работа. Артисты великолепно чи-тали стихи, отдавались игре полностью, со всей отдачей. Я очень хорошо помню Ведринскую38, Ходотова, роль которого я играл потом.
Помню я и знаменитый спектакль Мейер-хольда «Дон Жуан»39 в Александринском и тот же «Дон Жуан», поставленный в Мариинском театре40. Тут впервые появился художник во-едино с режиссером. Это Головин, который соединился с ним в своей деятельности в Мари-инском и в Александринском театрах. В Алек-сандринском, совместно с Загаровым, постав-лен им «Живой труп». В театре Оперы «Орфей»41.

Мастера
107
Какова же была линия Мейерхольда в Алек-сандринском театре того периода? В этот пред-революционный период репертуар Алексан-дринского театра был очень пестрый. Можно было по недосмотру руководства увидать пье-сы, выражающие достаточно передовые взгля-ды, а в то же время играли всевозможную бе-либерду.
Примером смещения понятий о том, что прогрессивно, что революционно и что нет, может служить спектакль «Заложники жиз-ни»42, поставленный Мейерхольдом, серьезно убежденным, что он делает прогрессивное дело. Сейчас к пьесе Сологуба «Заложники жизни» мы можем отнестись только юмористически, а в свое время она считалась левой, прогрессив-ной. Не могу не рассказать об этой пьесе. В ней было необыкновенное сочетание конкретного бытового реализма и совершенно абстрактной символики. Между абсолютно реальными людьми и житейскими ситуациями, людьми, добивающимися совершенно земных целей, вдруг появлялась таинственная потусторонняя девица Лилит43, по профессии танцовщица-босоножка, которая объясняла публике все перипетии драмы с возвышенных потусторон-них позиций.
В центре драмы стояли два персонажа — девушка Катя и очаровательный юноша Миха-ил. Они полюбили друг друга вечной любовью. На манер Шекспира, у Сологуба любви моло-дых людей препятствовали родители. Как поступают юные герои? Учтя сложившуюся сложную обстановку, Катя решает оставить Ми-хаила и выйти замуж за своего поклонника — предводителя дворянства, пошлого, но бога-того <Владимира Павловича Сухова>. Его иг рал — Горин-Горяйнов44. Катю играла Тиме45. Михаила — Лешков46.
Михаилу она дает дельный совет — кон-чить институт и сделать карьеру в избранной специальности. И если он все это сделает, то она заранее обещает, что она бросит мужа и уйдет к нему навсегда. Она советовала Ми-хаилу, чтобы ему не было грустно жить, вре-менно приблизить к себе влюбленную в него потустороннюю девицу Лилит. Это она совето-вала потому, что была уверена, что эта потусто-ронняя дева Лилит, поняв, что Катя возвраща-ется, благородно уйдет в сторону.
Все исполнилось именно так. Михаил кончил институт. Сделал блестящую карьеру
и начал зарабатывать огромные деньги. Тогда Катя бросает своего предводителя дворянства и двух рожденных ею детей, переходит к Ми-хаилу, а Лилит сама безропотно удаляется. И этим доказывается тема — измены нет, лю-бовь одна. (Смех.)
С нашей точки зрения, это необыкновен-ная белиберда, но Мейерхольд отдал дань этой теме с полным убеждением, что это прогрессив-ное явление. Смысл тут в том, что молодые люди должны были сознательно пойти в плен к страшным людям, как было написано, и стать на время заложниками жизни. Потом залог был выкуплен, и любовь восторжествовала. Идейно это не только не прогрессивно, но даже реакци-онно. Я привел этот пример для того, чтобы показать, как иногда смешивались понятия левое искусство и прогрессивное искусство. После революции также существовало это смешение понятий.
Период пребывания Мейерхольда в Алек-сандринском театре, безусловно, оставил след в театре. Многое из им сделанного потом, очи-стившись, вошло в историю театра.
Если говорить о его постановке классиче-ских спектаклей, то нельзя не сказать, что это было очень интересно. Мы не можем не назвать его блестящего спектакля «Маскарад». Это не значит, что «Маскарад» надо ставить так всю жизнь, но для своего времени, для своей эпохи «Маскарад» может звучать, на определенное время, как крупный памятник. Мы сейчас отошли от того, чтобы показывать «Дон Жуа-на» так, как он был показан у Мейерхольда и Головина. Мы предпочитаем «Дон Жуана» Жана Вилара47. Я думаю, что этот «Дон Жуан» больше вскрывает Мольера, чем тот. Но теа-тральные нововведения Мейерхольда были очень интересны и нужны.
Когда я пришел в Александринский театр, я застал Давыдова. Давыдов был одним из тех, на ком строил свою систему Станиславский. Высказывания Давыдова поражают. У меня записано много его высказываний о том, как он понимал театр, что такое с его точки зрения школа и театральная вера в искусство48. На-ходясь в Александринском театре, Мейерхольд пользовался любовью молодежи и вступил в резкий конфликт со старой гвардией. Влади-мир Николаевич Давыдов очень резко крити-ковал Мейерхольда, во многом его не принимал, хотя потом он и признал, что это способный,

Театрон [1•2012]
108
но вредный для искусства человек. Так отно-силась к Мейерхольду вся группа, стоявшая на реалистических позициях: Давыдов, Варламов, Савина, Стрельская. Это были актеры-реалисты. Среди них всегда находился один режиссер, Давыдов или Савина, которые умели органи-зовать ансамбль. Спектакли «Свадьба Кречин-ского» [А. Сухово-Кобылина], «На всякого мудреца [довольно простоты]» [А. Островско-го]49 или пустяковые мелочи вроде «Прохо-жего»50 и прочие благодаря их мастерству становились явлениями настоящего реалисти-ческого искусства. Они не были объединены единым методом в театре, но актеры честно несли этот метод в себе и боролись с Мейер-хольдом, как с принципиально идейным врагом. И в этом были правы старики.
Вот что писал Давыдов Лаврентьеву51, имея в виду Мейерхольда и его линию, которую допускал в театре Теляковский: «Неужели та страшная гнетущая атмосфера будет продол-жать наполнять дорогой, родной, горячо люби-мый нами театр и вместо того, чтобы привле-кать нас в свои святые стены, будет гнать нас оттуда?!! Это ужасно! Жутко даже думать об этом! Ведь при таких условиях серьезная, дель-ная, а тем более художественная работа немыс-лима!! Неужели не сумеют сгруппировать и заинтересовать всех артистов около великого общего священнодействия: служения родному искусству?! Не в том оно, чтобы ради кумов-ства, личных интересов или чего бы то ни было тянуть бездарностей, тешить свое я глупыми, никому ненужными фантазиями, пролазничать и браться не за свое дело, а в том, чтобы честно, здорово, благородно служить излюбленному делу, высоко держа и защищая всеми сила-ми души и разума знамя искусства! Грустно, больно, обидно думать, но этого теперь нет и, может быть, не будет!»52 Или дальше: «Когда я погляжу теперь в поездке, как работают и от-носятся к делу артисты средней величины, собранные со всех концов России, ей-богу, я отдыхаю душой, несмотря на некоторые не-удобства и тягости разъездов и условий теа-тров. Во мне просыпается вновь вера и на-дежда, что еще не все погибло для русского театра и „жив еще курилка“!! <…> Я убежда-юсь, что никакие нахалы, хулиганы искус-ства и палачи его не могут не только рас-шатать, но даже и поколебать прочный храм святого искусства, созданный трудами вели-
ких мастеров! Они обломают свои крысьи зубы, сточат свои подлые когти, надорвут свою гнилую печень и в грязном вонючем поту полягут у подножья могучего храма! Шуты гороховые!!! Господи! Утри наши слезы горь-кие!»53
Вот каким стоном звучала душа вождя реалистического театра великого актера Давы-дова. Была в этом правда? Была. Но тот же Давыдов, играя в пьесе «Два брата»54, сказал: «Талантливый этот черт-кенгуру, если бы не его дурацкая заумь. Я убежден в том, что он — жулик понимает, что надо делать. Он много хорошего мог бы сделать».
Несмотря на кажущуюся левизну формы и чего угодно, Мейерхольда вряд ли можно считать прогрессивным явлением в искусстве с точки зрения идейной. Эти стороны нужно очень четко и ясно понимать, чтобы вскрыть противоречивую интересную фигуру Мейер-хольда.
Не могу не упомянуть о том, чего Мейер-хольд хотел от театра как раз в этот самый предреволюционный период. Однажды Всево-лод Эмильевич сказал мне — приходи ко мне в студию на Бородинскую 655. Мы там поговорим о том, что надо делать. Тогда мы были молоды-ми актерами — Лешков, Смолич56, я, Ковален-ская57. Мы пришли к нему. Тут происходило зарождение системы биомеханики.
Мейерхольдом был выдвинут лозунг — ис-кусство, которое нуждается в трех человеках в партере и в коробочке сцены, не народно. На-родное искусство должно быть искусством площадей. Поэтому техника актера должна быть такая, чтобы им любовались сидящие везде, чтобы его все видели и слышали. Коро-бочки — это психоложество и ерунда. Нужно выводить театр оттуда. И занимаясь в кружке Павлова по изучению высшей нервной деятель-ности, он говорил интересные вещи. Он назы-вал свое ученье биомеханикой. Био — это жизнь, а механика — механика. Он доказывал, что если не соблюдаются законы жизни и если они не проводятся через совершенный меха-низм (а человек это есть механизм), то ничего не может получиться. Он говорил: «Что такое законы механики. Вообразите, что строится мост. Его кладут на такую основу, что он пру-жинит. Поэтому напряжение и передается туда, где в данный момент максимальный вес. Это хитрость в постройке моста. Человеческий

Мастера
109
организм, как и мост, испытывает колебания и движется. Секрет в том, что должна быть на-пряжена только та часть, которая сейчас нужна к употреблению. Поэтому, когда человек стоит на двух ногах, это идиотизм. Это бездарно и это нельзя смотреть за исключением образа, когда вы играете Охламона. Вне закона жизни вы встать не можете или вы встанете так, что про-тивно будет смотреть. Если вы хотите бросить какой-нибудь предмет, то вы центр тяжести передаете только на одну ногу. Другая свобод-на. Если вы этого не сделаете, вы не можете сделать движение. Это биос — закон жизни, а в то же время это механика, которая говорит, что напрягается коленная чашка. Если вниматель-но проследить и продумать, то это — великая вещь».
Драматический актер не имеет твердого постамента, твердого и гибкого торса, хорошей тренировки. Отсюда упражнение для руки и обруч. Только тогда человек красив в своей форме, когда он гибок. И Мейерхольд это до-казывал очень убедительно, и для этого он вводил целый курс движений. Сначала это были игровые движения — игра с обручем, иг-ра в мяч, жонглирование. Он все время кри-чал — «Локоть напряжен». «Неверно». «Вы-прямься».
Все упражнения его потом были в Школе актерского мастерства58. Он давал познания законов, при которых тело, поставленное пра-вильно по законам БИОСа и механики, сильно воздействует на зрителя. Человек, вставший в правильное положение и заломивший руки под траурный марш, будет производить впечат-ление, что он переживает большое горе, а в это время он может плевать в потолок. Но все равно все поверят.
Вахтангов называл это потом «законом оправдания формы». Но у Мейерхольда было чрезмерное увлечение этим. Он выкидывал за борт психологическую форму. Сейчас ведь ни-кто не учит без конца тыкать пальцем в одну ноту. Сейчас начинают упражнения, а потом дают легкую пьеску, потому что потом легче взяться за упражнение. Тогда он сознательнее начинает тыкать пальцами. А Мейерхольд этого недооценил, не понял, и это его беда. Но и в биомеханике есть крупицы истины, ибо она требовала от актера владения своим телом.
Почему он сближал театр с балаганом? Потому что в цирке громадная ответственность,
а в балаганчике есть ощущение взаимодей-ствия, взаимной радости творящего и зрителя. И когда мы пренебрегаем некоторыми из этих заветов, то мы не очень двигаемся вперед. Сей-час другой век, и мы становимся требователь-нее, но мы этого часто недооцениваем.
Как величайший конструктор, Мейер-хольд был строг в законе формы. Он стоял за профессионализм, за то, что должно быть вы-соко поднято знамя профессии актера. Не мо-жет быть такого положения, чтобы кто-то из зала отвел актера в сторону и сказал — я за тебя сыграю. Попробуйте сыграть за скрипача. Вый-дите, возьмите скрипку — и ничего, а это по-тому, что есть техника и мастерство. А совре-менному актеру из зрительного зала скажут — я лучше сыграю. Почему утеряна профессия? Нужно владеть своей профессией. Это блестя-ще доказывает Театр Жана Вилара. Мы хотим иного. Это другой театр, но там профессия очень поднята, и в этом заветы Мейерхольда должны звучать и сейчас. «Долой дилетан-тизм!». Это был его обычный возглас59.
Как-то недавно я включил телевизор. Вдруг выходит Муравский60 с гитарой и обра-щается к зрителю: «Я сейчас петь буду. Вы не удивляйтесь, я могу петь. Я пошел в оперу и послушал. Так и я могу петь. Пошел, послу-шал гитару. Я лучше на гитаре играю. Я так спою, что у меня хоть слова будут понятны». Когда он все сделал, то говорит — «Я сейчас вам объявлю об одном номере, исполнитель которого является представителем точного искусства. Когда я прихожу в оперу, то кто поет, а кто недопоет, но все равно опера идет. Прихожу в драму — кто доиграет, а кто не-доиграет — и все равно спектакль идет. А есть такое искусство, когда, повиснув, ловят трапецию и бросаются на нее. Вообразите, что тут чуть-чуть недотянут. Что тогда прои-зойдет?»
Эта мера ответственности в профессии обязательна и для нашего брата.
Ошибка Мейерхольда заключается в том, что он иногда формально подходил к творче-ству актера, давал определенное задание, и вместо того, чтобы ему помочь, как это делал Станис-лавский предлагаемыми обстоятельствами, Мейерхольд начинал актера накачивать. Он смотрит и говорит: «У вас 38, надо 45 поднять, 45 мало — 60 поднять». Но это же легко сказать, а трудно сделать. Этим он накачивал актера.

Театрон [1•2012]
110
Когда делал биомеханические упражнения с актером, он все время накачивал. У него были такие перехлестывающие увлечения. Он любил играть для других. И если кто-то сидел в зале во время репетиции, то он для зала репетировал, а не для актеров.
Я помню репетицию «Дон Жуана», когда актер Болконский61 играл брата Дона Жуана, с которым он должен был подраться62. В зале сидел Мейерхольд за столиком. Сидела труппа. Выходит Болконский. Мейерхольд ему: «Бо-рис, плохо. Почему отсюда?»
Болконский ему отвечает: «Вы вчера так поставили».
Мейерхольд: «Отменяется. Обязательно разговор со зрителем. Играй». — И начинал объяснять, кто выходит: человек чести, его се-стра оскорблена; он идет из-за угла, и увидел Дона Жуана, и т. д.
Болконский смущенно останавливается. Пробует играть. Мейерхольд — «Хорошо-хорошо. Плохо».
Затем Мейерхольд начинает говорить: «Ах, я бездарность. Не могу придумать артисту. Борис, сделай вот как»63.
Таким образом, он номеров 10 покажет за репетицию, и все в восторге. Это относилось к нему лично. Это было любопытно и всех при-водило в восторг.
Мейерхольд выдвигал теоретический принцип — «законы положения», то есть по-ложение человеческого тела обязательно вы-зывает и диктует соответствующие эмоции. Эмоции у артиста родятся потому, что найдено верное физическое положение. Вот его поло-жение при постановке «Маскарада» с исполни-тельницей роли Нины.
— Тебе я подал яд.— Яд, спасите. Сюда, сюда, на помощь,
я умираю. Яд, яд. (Демонстрирует.)«„Сюда на помощь, умираю“. Не совсем то.
В другом положении нужно. Бороться с бесси-лием и делать вот что: хочу двинуться! Сюда! Не могу! На помощь! Умираю!»
Таким образом, он давал десять разных положений на этот текст из десяти слов, и ак-триса заиграла. Есть ли в этом истина? Конеч-но, есть.
В его студии64 начинается его увлечение условностью, и в последующих спектаклях это проявлялось как борьба с традиционализмом и ход от старых форм — от commedia dell’arte
и т. д. Тут можно много найти интересного. Нельзя все принять, но выудить те элементы, которые могут пригодиться в нашей работе, — это невредно, а во многих случаях полезно.
Увлечение заданием на знаке отказа не обязательно. Что это значит по Мейерхольду? Намерение всегда должно быть выше исполне-ния в театре. Важно не то, что я хлопнул по морде партнера, а важен жест — знак отказа. Сделал отказ, а потом шарах. Это называлось — «знак отказа». Если бы молодые люди трени-ровались и вообще если бы это стало одним из элементов профессии, то было бы велико-лепно. Это наделено смыслом и действием. Мне кажется, что «заветы», которые оставил нам Мейерхольд, будут жить и дальше. Мейерхольд считал, что в театре существует закон скуль-птуры. Есть мизансцены от живописи и от скульптуры. Он часто говорил, что любой из нас, а в особенности тот, кто думает быть ре-жиссером, должен ходить в филармонию и слу-шать симфонические концерты. Он должен знать, как каждый дирижер дирижирует, и когда слушает, должен соображать, где тут режиссер.
Он говорил, что идеал актера, у которого кроме его внутренней жизни существует сце-ническая жизнь всего тела, это Федор Шаляпин.
Я и раньше очень любил Федора Ивано-вича Шаляпина. Я встречался с ним65, но Мей-ерхольд заставил меня многое понять по-новому. Мейерхольд говорил о силе ног. Как-то он сказал — «По ногам я могу узнать дарование актера». Это было, конечно, преувеличением, но в этом есть истина. Однажды он пригласил меня в Мариинский театр. Шаляпин пел в «Юди-фи» Олоферна66. Мы пришли. Прошел 1-й акт. Идет 2-й. Мейерхольд говорит: «Сейчас Ша-ляпин будет лежать на ложе. Слушай музыку и смотри на одни ноги».
Олоферн на ложе. Поют опахальщики, женский хор. Вдруг раздается голос Олофер-на: «Спой, Вагоа67. Ты песен много знаешь». Затем поет лирический тенор. Шаляпин спу-скает одну ногу и произносит следующую фразу: «Довольно этих бабьих песен. Воин-ственной хочу я песни». И тот поет: «Знаю я песню…» и т. д.
Поют опахальщики. Я слушаю музыку68. И тут я вижу, как поворачивается нога Шаля-пина точно в ритм музыке. Потом я вижу, как она поворачивается на другой кусок музыки. Слушают Вагоа, а потом удар в музыкальной

Мастера
111
фразе, и вторая нога на этом ударе опускается вниз. Он встал. Затем начинается марш «Зной-ной мы степью идем». В отыгрыше Шаляпин стоял так, что чувствуется — знойной степью он идет. Он еще не поет ничего. Но эта жизнь тела в музыке была передана им гениально. Если проводить в нашей опере реформу, то нужно проводить ее только в одном направле-нии — не отделять игры от музыки, существо-вать в музыке каждым своим движением, будь то рука или нога. В этом будет и настоящая реформа оперы. Поставить ли артиста на горку или под горку — это не так важно.
Характерно вечное стремление Мейер-хольда двигаться куда-то. Он мог сегодня сжечь то, чему поклонялся вчера. Тут характерна его решительность. Он не отрицал: да, так было. На одном диспуте кто-то с галерки крикнул — «В таком-то году вы говорили об этом иначе». Он посмотрел наверх и сказал: «Я не знаю этого высокоученого товарища, но я признаюсь всем, что когда мне было полтора года — я гадил в пеленки, а сейчас не гажу. Довольно вам?»
У него было вечное желание что-то ре-шить. Какое-то стремление что-то найти — это дух бунта в российском театре.
О советском периоде Мейерхольда я знаю столько же, сколько и вы. Мы с ним вместе были первые год или два после революции, когда было основано ТЭО Наркомпроса и соз-давались первые государственные школы. Есть план и тезисы по новой школе, нами двумя подписанные69. А потом он переехал в Москву, и известна его деятельность в Театре револю-ции и дальше. Об этом в двух словах не рас-скажешь. Это можно в следующий раз.
(Аплодисменты.)
IIС места: Кто из крупных режиссеров в тот
период разделял с ним эту программу? Напри-мер, Радлов?
Вивьен: Сергей Эрнестович Радлов, ко-нечно, от Мейерхольда взял. Не знаю, насколь-ко он был в контакте, но без влияния Мейер-хольда никто не остался. Может быть, только умершие.
Это был человек определенных убежде-ний. И если говорить по совести, то в театре почти нет ни одного человека, на котором бы в той или иной степени не отразилось влияние Мейерхольда. Нет такого театра. Нет такого
театра, который не пользовался бы его спосо-бами освещения, нет такого театра, который не вводит мейерхольдовских компонентов в спек-такль.
Он интересно высказывался о роли музы-ки в драматическом спектакле.
С места: Как воспринимал Мейерхольда Евтихий Карпов?
Вивьен: Карпов был убежденным чело-веком в театре и незыблемым натуралистом. В Консерватории на спектакле, когда шел «Лес»70, я сидел в 5-м ряду. Он сидел передо мною. Начался спектакль. Конструкции — никакой декорации. Ильинский удочкой ловит рыбу. Слышу, Карпов довольно громко: «Ох, ох, ох». Затем пауза. «О господи, господи, господи». Пауза. Потом опять: «Ой, ой, ой». Пошла сцена с гигантскими качелями Петра и Аксюши, он уже совершенно громко: «Го-споди, господи, господи. Прости им, не веда-ют, что творят». И по проходу через весь зал вышел.
С места: Что же Мейерхольда толкнуло в Александринский театр, где работали такие люди, как Карпов, Давыдов?
Вивьен: Мейерхольд понимал, что ему будет в Александринском театре очень трудно, но удержаться от искушения не мог. Толкнул его на это Теляковский, который видел, что в Александринском театре застой, что театр находится в тупике, что интерес к нему про-падает. Теляковский был окружен многими выдающимися художниками того времени — Головин, Шервашидзе71, Коровин72 и другие в Мариинском театре. В это время была группа сильных дирижеров и музыкантов вокруг Те-ляковского, и они-то и посоветовали ему по-пробовать привить эту бациллу бешенства Мариинскому театру, и как смелый кавалерист, Теляковский решил попробовать и пригласил Мейерхольда. А психология Мейерхольда была такова: интересно, что там можно наворотить. Он решил попробовать.
Он поставил в Александринском театре ряд хороших, очень божеских, по старому вы-ражению, спектаклей. Он поставил «Грозу»73 в плане условно-романтического зрелища. Он там не переворачивал все вверх ногами. Ка-терина была Рощина-Инсарова. Это было интересно. Это могло раздражать души зрите-лей, которые молились на Стрепетову, но это имело громадный общественный резонанс.

Театрон [1•2012]
112
Об этом писали и говорили. Он поставил та-кую пьесу, как «Романтики» Мережковско-го74, где все играли по всем правилам и кано-нам и т. д. и т. д.
Записка: Расскажите о последних годах его жизни.
Вивьен: Перед арестом Мейерхольд и Зи-наида Николаевна Райх были у нас. Я проводил его по улице, и мы расстались. В связи с за-крытием его театра75 и ясной линией против его искусства он был в состоянии депрессии. Во многом он был сам виноват. Многие вещи были неверны. Он говорил — моему театру конец. Что дадут, то и буду делать. Вызовут меня и скажут: Мейерхольд, назначаем вас сцена-риусом. Я возьму книжку и буду говорить: ваш выход, товарищ Петров.
Он уехал из Ленинграда, и через несколь-ко дней появилось сообщение в «Известиях», что он арестован76. Когда я бывал в Москве, то я останавливался часто у него. Он был очень травмирован в последнее время. Он впал в глу-бокий пессимизм. У него в театре были очень неприятные истории. Как всегда, многие из прежних друзей оказались предатели, в житей-ском смысле слова. Последняя неудачная про-ба была поставить деревенскую пьесу. Я за-был ее название77.
Записка: Скажите о возобновлении «Ман-дата»78.
Вивьен: Об этом ничего не могу сказать. Не видел. Я лично думаю, что никакая точная реконструкция к добру не приводит. Возобно-вить в том виде, как было двадцать лет тому назад, — невозможно. Когда требуют возобно-вить «Маскарад», то я в затруднении. Я не знаю, как это сделать. Не возобновить его основ-ное — дух. Декорации будут висеть. Сейчас уже по-иному можно читать «Маскарад».
Записка: Внес ли что-то Жан Вилар или у него все от Мейерхольда?
Вивьен: Конечно, трактовка у него со-вершенно новая, и приемы эти известны с 1913 года. Трактовка новая, решение новое. Это не значит, что он рабски копирует Мейер-хольда. У него великолепное и совершен-но новое решение пьесы «Мария Тюдор». У Жана Вилара многое определила природа его театра. Это рабочий театр. Это театр, ко-торый вечно передвигается. И тут многое могло повлиять на его решение. Не все мож-но возить в других декорациях. Тут бытие
определило сознание. Уменье понять обстоя-тельство — это одно из первейших качеств. Шекспировский театр решил определенную манеру игры.
Записка: Скажите о постановке «Пиковой дамы».
Вивьен: Я не берусь глубоко рассматри-вать этот спектакль. Я его видел только два раза. Я знаю мнение некоторых музыкантов, что там есть насилие над музыкой, но говорить об этом я не берусь. Многое мне там нравилось, а мно-гое — нет. Спальня под лестницей, например, мне не нравилась и пр.
С места: Как принял Мейерхольда Ста-ниславский?
Вивьен: В конце его деятельности он пер-вый и единственный человек, который вызвал Мейерхольда к себе во время моего пребыва-ния в Москве. Я видел Мейерхольда, который вернулся от Станиславского и сказал: Кон-стантин Сергеевич — большой человек. Каким он был, таким он и остался. Он вызвал меня к себе и сказал — Всеволод Эмильевич, хотя мы и разошлись, я знаю, что вы талантливый человек, нужный театру. Сейчас я занимаюсь оперным театром, и я вас приглашаю ко мне в оперный театр. Это было перед самым его концом, так что он почти и не начал работать.
Записка: Где Мейерхольд? Если умер, то когда?
Вивьен: Он умер. У меня есть документ. Его внучка, дочь Татьяны79, приезжала и по-казывала документ о его полной реабилитации, как коммуниста и гражданина80. Она сообщила, что он расстрелян в 1940 году.
<…>C места: Являются ли Таиров и Михоэлс
прямыми продолжателями Мейерхольда?Вивьен: У Таирова есть своя линия, от-
личавшаяся от Мейерхольда. Он прекрасно понимал законы формы, но Таиров шел больше по линии эстетской красивости. Мейерхольд хотя и делал спектакли стилизованного поряд-ка, но они никогда не имели красивости. Безу-словно, корни какие-то были.
А Михоэлс шел от Всеволода Эмильевича.С места: Расскажите о влиянии Мейер-
хольда на творчество Шостаковича.Вивьен: Шостакович, безусловно, во мно-
гих случаях находился под влиянием Мейер-хольда, под влиянием с большой буквы. Не только Мейерхольда как личности, а всего

Мастера
113
Мейерхольда. Я в этом убежден. Об этом гово-рят особенно его первые шаги, и эти неустанные поиски формы, и это неудовлетворение собой тоже во многом от Всеволода Эмильевича.
С места: Почему сведено на нет то, что создал Мейерхольд?
Вивьен: Это было потому, что он был по-литически уничтожен. Раз его совершенно оправдали, значит, по какому-то ложному до-
носу он был политически уничтожен и все, что было связано с его именем, было снято с по-вестки дня. Эта одна из тех ошибок, которая произошла и о которых открыто заявил ЦК партии.
Остальные вопросы касаются послерево-люционного периода, и сегодня на них отвечать не стоит.
(Аплодисменты.)
1 Соловьева И. Н. Немирович-Данченко и Мейерхольд: Конспект предложений к разговору // Мей-ерхольд, режиссура в перспективе века: Материалы конференции. Вып. 1. М., 2001. С. 104.
2 Стенограмма беседы Л. С. Ви-вьена находится в рукописном отделе библиотеки Санкт-Петер-бургского отделения СТД (Ед. хр. № 06.02.1957. Л. 3–34). Публику-ется впервые.
3 Школу актерского мастерства Вивьен и Мейерхольд создали в 1918 г., в ней Вивьен преподавал до последнего дня своей жизни.
4 Это выступление было опу-бликовано на основе стенографи-ческой записи: Вивьен Л. С. Из воспоминаний о В. Э. Мейер-хольде // Сценическая педаго-гика: Сборник трудов / Отв. ред. С. В. Гиппиус. Л., 1973. С. 248–252; переиздание: Леонид Сергеевич Вивьен: Актер. Режиссер. Педагог: Сборник / Сост. В. В. Иванова. Л., 1988. С. 129–133.
5 Там же. С. 65, 67, 72.6 Известный режиссер, педагог,
историк театра, сотрудник Мейер-хольда в 1910-е гг. В. Н. Соловьев в набросках к неопубликованной книге «Из истории любительского театра в Петербурге» (1923) в главе «Любительство у Мейерхольда» пишет:
«Даты любительства Мейер-хольда: 1892–1895.
14 февраля 1892 — „Горе от ума“ (Мейерхольд—Репетилов), 6 декабря — „Недоросль“ (Кутей-кин), 2-я пензенская гимназия. И длительная полоса любитель-ских выступлений под псевдони-мом Ухтомский» (Мейерхольдов-ский сборник. Вып. 2: Мейерхольд и другие. М., 2000. С. 240).
7 В «Автобиографии 1913 г.», написанной Мейерхольдом в тре-т ь е м л и ц е д л я « К р и т и к о -библиографического словаря русских писателей и ученых», из-дававшегося С. А. Венгеровым, отмечается: «Ученик драматиче-ских курсов Мейерхольд не про-пускал почти ни одного спектакля Императорского Малого театра с участием замечательного актера А. П. Ленского, которого считает главным своим учителем в деле актерского искусства» (Мейер-хольд В. Э. Наследие. I. Автобио-графические материалы. Докумен-ты, 1896–1903. М., 1998. С. 27).
8 Общество искусства и литера-туры создано в Москве в 1888 г. К. С. Станиславским при участии Ф. П. Комиссаржевского, А. Ф. Фе-дотова, Ф. Л. Сологуба. При обще-стве было организовано училище с драматическими и музыкальны-ми классами. В 1891 г. главой Общества стал Станиславский, председателем — Г. Н. Федотова.
9 См., например, письмо В. Э. Мей-ерхольда О. М. Мунт от 30 января 1896 г., в котором об игре Станис-лавского сказано следующее: «…От спектакля Общества искусства и литературы получил большое наслаждение. Станиславский — крупный талант. Такого Отелло я не видел, да и вряд ли когда-нибудь в России увижу» (Мейер-хольд В. Э. Наследие. I. С. 117). Премьера «Отелло» — 19 января, 29 января спектакль шел в третий раз.
10 В «Автобиографии 1913 г.» указывается: «В 1896 г. летом Мейерхольд принимает деятель-ное участие в спектаклях пензен-ского народного театра, где начи-нает свои первые шаги в качестве
актера, а осенью поступает на драматические курсы при Москов-ском филармоническом обществе к профессорам: Вл. И. Немиро-ви чу-Данченко, А. А. Федотову и Ф. А. Акимову. Мейерхольд при-нимается прямо на второй курс, отчасти оттого, что принес с собой в школу уже достаточный сцени-ческий опыт, отчасти во внимание со стороны дирекции школы к от-сутствию материальных средств для платы за обучение…» (Мейер-хольд В. Э. Наследие. I. С. 26).
11 Александр Александрович Федотов (1863–1909) — драмати-ческий актер, педагог и театраль-ный критик. С 1993 г. до конца жизни — актер Малого театра.
12 Подробнее о филармониче-ских собраниях, устраиваемых Московским филармоническим обществом, на которых постоянно присутствовал Мейерхольд, см.: Волков Н. Д. Мейерхольд: В 2 т. М.; Л., 1929. Т. 1. С. 72–73.
13 Ср., например, одно из вы-сказываний Немировича-Данчен-ко о Мейерхольде, учащемся музы-кально-драматического училища: «Проявил очень большую актив-ность — и особенно в направлении общей дружной работы» (Немиро-вич-Данченко В. И. Из прошлого. Л.; М., 1936. С. 126).
14 Здесь явная ошибка стеногра-фистки: указание на репетиции «Пушкина» дает повод считать, что имеется в виду подготовка театра к столетию со дня рождения А. С. Пушкина, отмечавшемуся 26 мая 1899 г. На самом деле Ви-вьен имел в виду село Пушкино (с 1925 г. — город), в котором с 15 июня до начала сентября 1898 г. проходили репетиции пер-вых спектаклей МХТ. Мейерхольд
Комментарии

Театрон [1•2012]
114
подробно описывает происхо-дившее в Пушкино в письмах к О. М. Мейерхольд (Мунт) (см.: Мейерхольд В. Э. Наследие. I. С. 144–153, 172–173).
15 Товарищество Новой драмы открыло сезон в Херсоне 15 сентя-бря 1903 г. и давало в этом городе спектакли до 8 февраля 1904 г. В предыдущий сезон в Херсоне работала Труппа русских драмати-ческих артистов под управлением А. С. Кошеверова и В. Э. Мейер-хольда (открытие сезона 22 сентя-бря 1902 г. — закрытие сезона 16 февраля 1903 г.); эта же труппа после Херсона в 1903 г. играла спектакли в Николаеве (24 февра-ля — 7 марта) и в Севастополе (7 апреля — 6 июня).
16 В 1902–1904 гг. в Херсоне Мейерхольд осуществил 19 по-становок по произведениям Ибсе-на, Гауптмана, Пшибышевского, Метерлинка. Помимо пьес авто-ров, перечисленных Вивьеном, Мейерхольд поставил 7 пьес Г. Зу-дермана, 5 пьес А. Шницлера, пьесы К. Шенгера, Р. Бракко и др. (См.: Режиссерские работы В. Э. Мей-ерхольда / Сост. А. В. Февраль-ский, М. М. Ситковецкая, Н. М. Шейко // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2. С. 592–595; Звенигород-ская Н. Е. Провинциальные сезоны Всеволода Мейерхольда, 1902–1905. М., 2004).
17 Первой премьерой Товарище-ства Новой драмы в Тифлисе стал «Поток» Н. Гальбе (премьера: 15 октября 1904 г.). Театр пробыл в Тифлисе до начала марта 1905 г.
18 Илларион Николаевич Пев-цов (1879–1934) — драматический актер, народный артист РСФСР. В 1902 г. начал свою сценическую деятельность в Херсоне в Труппе русских драматических артистов В. Э. Мейерхольда и А. С. Коше-верова, состоял актером Товари-щества Новой драмы. С 1905 по 1915 г. играл в различных городах провинции, в последующие десять лет — входил в труппы различных московских театров, включая МХТ и МХТ II. С 1926 г. до конца жизни играл в Александринском театре.
19 Театр-студия МХТ (иначе Студия на Поварской) начал свою работу 2 мая 1905 г. и оборвал ее 24 октября того же года. По опре-делению Мейерхольда, «Театр-Студия был театром исканий но-вых сценических форм» (Мейер-хольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 111).
20 Сергей Юрьевич Судейкин (1882–1946) — театральный худож-ник, живописец, график. В 1905 г. вместе с Н. Сапуновым оформлял для Театра-студии на Поварской в Москве «Смерть Тентажиля» в постановке В. Мейерхольда. Судейкин восемь раз участвовал в совместной работе с Мейерхоль-дом. Был художником таких из-вестных спектаклей режиссера, как «Сестра Беатриса» в Театре В. Ф. Комиссаржевской (1906), «Шарф Коломбины» в «Привале комедиантов» (1916).
21 Николай Николаевич Сапу-нов (1880–1912) — живописец, театральный художник. Был ху-дожником в трех известных по-становках Мейерхольда: «Гедда Габлер» Г. Ибсена и «Балаганчик» в Театре В. Ф. Комиссаржевской (1906), «Шарф Коломбины» в Доме интермедий (1910).
22 Юргис Казимирович Балтру-шайтис (1873–1944) — русский и литовский поэт-символист и пере-водчик. В «Биографических дан-ных» (1921) Мейерхольд заявляет: «Сближаюсь с Ю. Балтрушайти-сом и зачитываюсь всем, что из-дает „Скорпион“» (издательство, основанное при ближайшем уча-стии Ю. Балтрушайтиса) (Мейер-хольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 311).
23 Алексей Михайлович Реми-зов (1877–1957) — русский писатель-модернист. Сотрудничал с Мейерхольдом в Товариществе Новой драмы.
24 Вивьен относит изобретение этого словечка Мейерхольдом к 1900-м годам. Литературоведе-ние издавна приписывает этот неологизм Маяковскому и терми-нологии лефовцев. Маяковский действительно неоднократно ис-пользовал понятие «психоложе-ство» в стихах, выступлениях, ин-
тервью. Ср., напр.: «У Вандервель-де качеств множество // Но не занимаясь психоложеством // вы-делю одно: до боли // Эмиль сер-доболен» («Вандервельде», 1923); «Основная позиция: против вы-думки, эстетизации и психоложе-ства искусством — за агит, за ква-лифицированную публицистику и хронику» (автобиография «Я сам», 1922, 1928); «Театраль-ная идея ее [«Бани»] — борьба за театральную агитацию, за теа-тральную пропаганду, за театраль-ные массы — против камерности, против психоложества» (Литера-турная газета. 1930. 30 марта). Смеем предположить, что это слово вошло в обиход в петербург-ские годы Мейерхольда.
25 Комиссаржевская была осво-бождена от службы в Александрин-ском театре 1 сентября 1902 г.
26 «Сестра Беатриса» — премье-ра 22 ноября 1906 г.; «Гедда Га-блер» — премьера 10 ноября 1906 г.; «Балаганчик» — премьера 30 дека-бря 1906 г.; «Жизнь человека» — премьера 22 февраля 1907 г.; «Свадьба Зобеиды» — премьера 12 февраля 1907 г.; «Кукольный дом» — премьера 18 декабря 1906 г.
27 Премьера «Кукольного дома» в Драматическом театре В. Ф. Ко-миссаржевской состоялась 20 февраля 1904 г. на гастролях театра в Москве (режиссер — А. П. Пет-ровский).
28 Жан Вилар (1912–1971) — французский актер и режиссер. В 1951 г. возглавил Национальный народный театр Франции (ТНП). Вивьен был на спектаклях ТНП в Ленинграде со 2 по 7 октября 1956 г.
29 Известно, что не все новше-ства Мейерхольда с легкостью приживались на современной ему сцене. Одним из свидетельств тому может служить выступле-ние крупнейшего русского актера В. Н. Давыдова во время обсужде-ния доклада кн. С. М. Волконско-го «Обстановка или актер» на «Среде» у бар. Н. В. Дризена 25 ноября 1910 г. Отметив, что театр переживает переходное время, Давыдов резко заявил: «Такой период исканий портит все дело

Мастера
115
и порождает лишь новшества, при-тянутые за волосы, которые давят артиста и дробят его на ненужные мелочи. В поисках новых путей артисты запутались. <…> В ис-кусстве необходимо движение вперед, но движение разумное. Ни обстановка, ни декорации, ни ко-стюмы не должны давить ни авто-ра, ни актера» («Обстановка или актер». Протокольная запись об-суждения доклада С. М. Волкон-ского [на средах Н. В. Дризена] // РО РНБ. Ф. № 263 (Архив Н. В. Дризена). Ед. хр. 366. Л. 4–5).
30 Вивьен говорит о статье Мей-ерхольда «Театр. К истории и тех-нике», впервые опубликованной в сборнике статей «Театр. Книга о Новом театре» (СПб., 1908. С. 123–176), вошедшей впослед-ствии в сборник статей Мейер-хольда «О театре» (СПб., 1913). Среди разделов этой статьи име-ются и те, что подтолкнули Вивье-на к именованию статьи «Условный театр», а именно: «IV. Первые по-пытки создания Условного театра»; «V. Условный театр». Эта статья полностью была воспроизведена в кн.: Мейерхольд В. Э. Статьи. Пись-ма. Речи. Беседы. Ч. 1. С. 105–142.
31 Мейерхольд вступил в труппу Александринского театра 1 сентя-бря 1908 г.
32 Премьера спектакля «У врат царства» К. Гамсуна (перевод В. М. Саблина) в Александрин-ском театре (режиссер — В. Мей-ерхольд, художник — А. Головин) состоялась 30 сентября 1908 г.
33 Александр Яковлевич Голо-вин (1863–1930) являлся худож-ником двадцати спектаклей, по-ставленных Мейерхольдом в Алек-сандринском и Мариинском теа-трах в 1908–1918 гг.
34 Роман Борисович Аполлон-ский (1865–1928) — драматиче-ский актер, заслуженный артист РСФСР, в Александринском теа-тре служил в 1881–1928 гг. Ис-полнял роль Протасова в «Живом трупе» Л. Толстого, поставленном в Александринском театре Мейер-хольдом в 1911 г.
35 Мария Александровна По-тоцкая (1861–1940) — драматиче-ская актриса, с 1892 по 1929 г. ак-
триса Александринского театра.36 Николай Николаевич Ходо-
тов (1878–1932) — драматический актер, с 1898 по 1929 г. актер Алек-сандринского театра. В спектакле «Живой труп» Л. Толстого в по-становке В. Мейерхольда и А. За-гарова исполнял роль Протасова.
37 Премьера спектакля «Шут Тантрис» Э. Хардта (перевод П. П. Потемкина) в Александрин-ском театре (режиссер — В. Мей-ерхольд, художник — Э. Шерва-шидзе, композитор — М. Кузмин) состоялась 9 марта 1910 г.
38 Мария Андреевна Ведрин-ская (1877–1948) — драматиче-ская актриса, в Александринском театре с 1906 по 1924 г. С 1924 г. в эмиграции.
39 Премьера спектакля «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера (перевод В. И. Родиславского) в Алексан-дринском театре (режиссер — В. Мейерхольд, художник — А. Го-ловин) состоялась 9 ноября 1910 г.
40 Вивьен имеет в виду оперу А. С. Даргомыжского «Каменный гость», первое представление ко-торой в постановке Мейерхольда состоялось 27 января 1917 г. Из-вестный историк оперного театра А. А. Гозенпуд проводит интерес-ную параллель: «Этот спектакль [«Каменный гость»], как и Маска-рад, показанный в самый день ре-волюции, был своеобразным ито-гом. В известной мере они родствен-ны и концепционно. И в опере, и в драме режиссер стремился выявить жестокую власть роковых сил над человеком» (Гозенпуд А. А. Русский оперный театр между двух революций, 1905–1917. Л., 1975. С. 345).
41 Премьера спектакля «Орфей» Х.-В. Глюка в Мариинском театре (режиссер — В. Мейерхольд, дири-жер — Э. Направник, постановка балетных сцен — М. Фокин, ху-дожник — А. Головин) состоялась 21 декабря 1911 г.
42 Премьера спектакля «Залож-ники жизни» Ф. Сологуба в Алек-сандринском театре (режиссер — В. Мейерхольд, художник — А. Го-ловин) состоялась 6 ноября 1912 г.
43 Роль Лилит (Елены Луногор-ской) исполняла М. А. Ведринская.
44 Борис Анатольевич Горин-Горяйнов (1883–1944) — драмати-ческий актер, народный артист РСФСР, в Александринском теа-тре с 1911 по 1944 г.
45 Елизавета Ивановна Тиме (1884–1968) — драматическая актриса, театральный педагог, на-родная артистка РСФСР. В Алек-сандринском театре в 1908–1968 гг. Профессор Ленинградского госу-дарственного театрального инсти-тута в 1935–1968 гг. Участвовала в спектаклях Мейерхольда «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера (1910), «Маскарад» М. Лермонтова (1917).
46 Павел Иванович Лешков (1884–1944) — драматический актер и режиссер, театральный педагог, заслуженный артист РСФСР. С 1911 по 1923 и с 1926 по 1941 гг. актер Александринско-го театра; в 1925–1926 гг. актер Театра им. Вс. Мейерхольда. С 1924 по середину 1930-х гг. — препо-давал актерское мастерство в Ин-ституте сценических искусств — Техникуме сценических ис-кусств — Центральном театраль-ном училище (ныне СПбГАТИ).
47 Спектакль поставлен ТНП для Авиньонского фестиваля в 1953 г. (постановка Жана Вила-ра, сыгравшего также заглавную роль, в которой он создал образ опустошенного циника). Спек-такль был показан в Ленинграде во время гастролей театра в СССР в октябре 1956 г. «В 1953 году ре-жиссер Жан Вилар ставил спек-такль о себе, о поколении сорока-летних французов, прошедших войну, позор капитуляции, ра-дость освобождения, трагедию Хиросимы и смертельно уставших от жизни и прежде всего от самих себя, от бесплодных попыток объ-яснить и найти моральное оправ-дание происходящему. <…> Жан Вилар увидел в мольеровском Дон Жуане историю французского интеллектуализма» (Дунаева Е. «Дон Жуан, или Каменный гость» Жан-Батиста Мольера // Спек-такли двадцатого века. М., 2004. С. 219–220).
48 Л. С. Вивьен опубликовал статью «В. Н. Давыдов и его школа»

Театрон [1•2012]
116
(Записки о театре: Сб. статей. М.; Л., 1958. С. 32–48). Эта же статья была повторена в кн.: Леонид Сер-геевич Вивьен: Актер. Режиссер. Педагог. С. 152–166.
49 При жизни Варламова и Са-виной «На всякого мудреца доволь-но простоты» на сцене Алексан-дринского театра в последний раз ставилась в 1909 г., «Свадьба Кречинского» в 1910 г. Вот как вспоминает спектакль по пьесе Ос-тровского исполнительница ро ли Машеньки Турусиной Е. И. Тиме: «Ведущие роли исполняли Сави-на, Стрельская, Н. Васильева, Чижевская, Давыдов, Варламов, Далматов, Аполлонский и Оза-ровский. Счастье играть с такими партнерами редко выпадает на долю молодого актера! Каждый образ спектакля был шедевром сценического искусства, каждая интонация — непередаваемая по верности жизни и совершенству мастерства. Мамаева Савиной на-всегда войдет в сценическую историю постановок пьес Остров-ского» (Тиме Е. И. Дороги искус-ства. М.; Л., 1962. С. 159). В вос-поминаниях Тиме о «На всякого мудреца», занимающих три стра-ницы, ни слова не говорится о ре-жиссуре, о постановочной органи-зации спектакля, а вот три следую-щие страницы книги выглядят ярким контрастом к этим: в них актриса описывает режиссерскую работу Мейерхольда над спекта-клем «Дон Жуан», в котором ей довелось исполнять роль Шарлот-ты. О постановочной новизне Тиме высказывается так: «В спек-такле поражало многое. Свет в зале горел на протяжении всего пред-ставления. Занавес отсутствовал, и авансцена была выведена чуть ли не до первых рядов кресел. От-сутствовала и суфлерская будка. Два суфлера в костюмах мольеров-ской эпохи находились по краям сцены за нарядными ширмами с окошечками и занавесками. Время от времени суфлеры выходили из-за ширм с позолоченными кни-гами в руках и даже включались в действие. Арапчата и слуги про-сцениума, выполнявшие обязан-ности рабочих сцены, также были
одеты в мольеровские костюмы. Постановка была осуществлена в стиле старинного балета и вре-менами напоминала ожившие композиции французского фарфо-ра. Стилизация была новинкой и вы-зывала споры» (Там же. С. 162–163).
50 Вивьен, вероятно, называет пьесу со схожим названием: «Про-хожие» В. А. Рышкова. В Алексан-дринском театре премьера этой пьесы прошла 24 октября 1911 г. Спектакль пользовался успехом, о чем свидетельствуют 44 пред-ставления с октября 1911 по ян-варь 1914 г. Комедия в 1 действии Ф. Кноппе «Прохожий» шла толь-ко в Малом театре в 1898 г. (см.: История русского драматического театра: В 7 т. М., 1987. Т. 7. С. 487).
51 Андрей Николаевич Лаврен-тьев (1882–1935) — драматиче-ский актер, режиссер, заслужен-ный деятель искусств РСФСР. В 1904 г. окончил школу-студию МХТ, был принят в его труппу. В 1910–1918 гг. — актер Алексан-дринского театра. Один из основа-телей, актер, режиссер Большого драматического театра. В «Маска-раде» М. Лермонтова, поставлен-ном Мейерхольдом в 1917 г., ис-полнял роль Шприха.
52 Письма В. Н. Давыдова / Публикация А. Н. Кочетова // Театральное наследство. Сообще-ния. Публикации. М., 1956. С. 450.
53 Там же.54 Премьера спектакля Алексан-
дринского театра «Два брата» М . Лермонтова (режиссер — В. Мейерхольд, художник — А. Го-ловин) состоялась 10 января 1915 г. на сцене Мариинского теа-тра. В 1916 г. спектакль был пере-несен на александринскую сцену. В. Н. Давыдов исполнял в спекта-кле роль Радина-отца.
55 Среди молодых актеров Алек-сандринского театра, посещавших Студию на Бородинской, были Л. С. Вивьен, Е. П. Студенцов, П. И. Лешков, Е. И. Тиме, Н. Г. Ко-валенская.
56 Николай Васильевич Смолич (1888–1968) — актер, режиссер, театральный педагог, народный артист СССР. С 1911 до 1922 г. — актер и режиссер (с 1918 г.) Алек-
сандринского театра. С 1921 г. режиссер музыкальных театров. В 1924–1930 гг. — художествен-ный руководитель и директор Ленинградского Малого оперного театра, в 1930–1936 гг. главный режиссер Большого театра, в 1938–1947 гг. — главный режиссер, ди-ректор и художественный руково-дитель Киевского академического театра оперы и балета им. Т. Шев-ченко.
57 Нина Григорьевна Ковален-ская (1888–1993) — русская дра-матическая актриса, в Алексан-дринском театре выступала в 1909–1919 гг. «Особенности таланта Коваленской, — отмечал А. Я. Альт-шуллер, — соответствовали вхо-дившему в моду искусству мо-дерн» (Альтшуллер А. Я. Нина Григорьевна Коваленская // Сю-жеты Александринской сцены. Рассказы об актерах. СПб., 2006. С. 480). Коваленская играла во многих спектаклях Мейерхольда на александринской сцене: «Шут Тантрис», «Дон Жуан», «Два бра-та», «Стойкий принц» П. Кальде-рона (перевод К. Бальмонта), «Маскарад» М. Лермонтова и др. Она была актрисой петербургской поры режиссера.
58 Школа актерского мастерства (ШАМ) основана В. Э. Мейер-хольдом и Л. С. Вивьеном, начала работу в декабре 1918 г.
59 О дилетантизме Мейерхольд особенно часто говорил в послед-ние годы жизни. Развернутую от-поведь дилетантизму он дает во время выступлений на заседании режиссерской секции ВТО 5 янва-ря 1939 г. и во время лекции на курсах режиссеров драматических театров 17 января того же года (см.: Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2. С. 444, 447, 454, 462). В наброске <О меж-дународных задачах театра> (1936 г.) курсивом выделено вос-клицание: «Долой дилетантизм!» (Там же. С. 435).
60 Петр Лукич Муравский (1896–1981) — известный актер эстрады, конферансье, музыкальный фелье-тонист.
61 Борис Александрович Бол-конский (1893–1946) — окон-

Мастера
117
чил Драматические курсы Петро-градского Театрального учили-ща в 1915 г. (класс Ю. М. Юрьева). В 1915–1918 и в 1925–1941 гг. актер Александринского театра. Премьера «Дон Жуана» на алек-сандринской сцене состоялась 9 ноября 1910 г. Спектакль играл-ся в последний раз 17 ноября 1914 г. Премьера возобновленного «Дон Жуана» состоялась 29 янва-ря 1915 г. Именно в этом возобнов-лении Болконский и играл Дона Карлоса.
62 Вивьен оговорился — Дон Карлос, которого репетировал Болконский, у Мольера — брат Эльвиры.
63 Случай с Болконским кратко и в ином контексте изложен Ви-вьеном в его выступлении на вече-ре, посвященном Мейерхольду, в ЛГИТМиКе в марте 1964 г. (См.: Вивьен Л. С. Из воспомина-ний о В. Э. Мейерхольде // Сцени-ческая педагогика. Л., 1973. С. 251.)
64 Имеется в виду Студия на Поварской.
65 См. воспоминания Вивьена «О Шаляпине» в кн.: Леонид Сер-геевич Вивьен: Актер. Режиссер. Педагог. С. 137–139.
66 Премьера оперы А. Н. Серова «Юдифь» в Мариинском театре в Петербурге состоялась 16 мая 1863 г. Шаляпин впервые испол-нил Олоферна 21 сентября 1907 г. в декорациях конца XIX в. 10 ноя-бря 1908 г. «Юдифь» в Мариин-ском театре — по настоянию Ша-ляпина — шла в новом оформлении, выполненном сыном композитора Серова В. А. Серовым, эскизы костюмов готовил К. А. Коровин. Мейерхольд и Вивьен могли быть на представлениях «Юдифи» 14, 17, 21, 25 ноября, 4 и 9 декабря 1908 г. 24, 30 ноября, 4, 11, 20 де-кабря 1909 г. Далее спектакль не показывался на мариинской сцене в течение трех лет. Возобновление: 16 ноября 1912 г. До этого Шаляпин спел партию Олоферна в 1897 г. в Частной опере С. И. Мамонтова в Москве. Декорации и костюмы к этому спектаклю также создавали Серов и Коровин.
67 Вагоа — начальник гарема Олоферна (тенор).
68 Далее в стенограмме рукой Вивьена вычеркнут короткий, но выразительный фрагмент его рас-сказа: «Музыка идет примерно так (демонстрирует)».
69 «Проект положения о Школе актерского мастерства», состав-ленный В. Э. Мейерхольдом и Л. С. Вивьеном, впервые был опу-бликован в журнале «Временник Театрального отдела Наркомпро-са» (1918. № 1. С. 24–27). После-дующие публикации см.: Гиппи-ус С. В. Первые учебные планы Л. С. Вивьена // Сценическая педагогика: Сборник трудов. Л., 1976. Вып. 2. С. 233–237 (с неболь-шими сокращениями); Леонид Сергеевич Вивьен: Актер. Режис-сер. Педагог. С. 171–175.
70 Премьера спектакля Театра имени Вс. Мейерхольда «Лес» А. Островского (композиция тек-ста В. Мейерхольда) состоялась 19 января 1924 г. (режиссер — В . Мейерхольд, художник — В. Федоров по планам Мейер-хольда).
71 Александр Константинович Шервашидзе (1872–1968) оформ-лял спектакли Мейерхольда в Алек-сандринском театре — «Тяжба» Н. Гоголя (1909), «Шут Тантрис» Э. Хардта (1910) и в Мариинском театре — «Тристан и Изольда» Р. Вагнера (1909).
72 Константин Алексеевич Ко-ровин (1861–1939) оформлял спектакли В. Мейерхольда — «Жи-вой труп» Л. Толстого в Алексан-дринском театре (1911), «Снегу-рочка» Н. Римского-Корсакова в Мариинском театре (1917).
73 Премьера «Грозы» А. Остров-ского в Александринском театре (режиссер — В. Мейерхольд, ху-дожник — А. Головин) прошла 9 января 1916 г.
74 Премьера спектакля «Роман-тики» Д. Мережковского в Алек-сандринском театре (режиссеры — В. Мейерхольд, Ю. Ракитин, ху-дожник — А. Головин) состоялась 21 октября 1916 г.
75 7 января 1938 г. Комитет по делам искусств принял постанов-ление о ликвидации ГосТИМа. В этот день в театре состоялся по-следний спектакль — шло 725-е
представление «Дамы с камелия-ми» Александра Дюма-сына. Пре-мьера спектакля состоялась 19 марта 1934 г.
76 Мейерхольд был арестован в ночь с 19 на 20 июня 1939 г. в Ле-нинграде в своей квартире на Карповке.
77 В апреле 1937 г. в ГосТИМе должна была состояться премьера спектакля по пьесе Л. Сейфулли-ной «Наташа». Спектакль был «разгромлен». Именно эту поста-новку имеет в виду Вивьен. Кри-тик В. Яранцев так оценивает пьесу «Наташа»: «В „Наташе“ есть все, что уже было у Л. Сейфулли-ной в начале 20-х: и революцион-ный энтузиазм, и незаурядная ге-роиня, и конфликты — личный (Федор, который должен женить-ся на Фетинье, а любит Наташу) и социальный (противостояние Наташи и „кулаков“ Миронова и Феклы), и массовые сцены, по-казывающие невежество и, наобо-рот, сознательность крестьян, а за-тем и колхозников. Нет только главного — молодости, „молодняка“, носителя естественности и есте-ства жизни. И даже язык Л. Сей-фуллина дала Наташе такой же, немолодой: он то уж чересчур де-ревенский („бабиньки“, „звырнул“ и т. д.), то слишком городской, ученый („После раздела хозяйство у ней уж не кулацкое… Федор, вос-питанник, в колхозе, ударник пре-мированный…“). А спустя год мы узнаем, что „сам Сталин с ней опять лично беседовал о результа-тах поездки по колхозам… Вместе она опять в газете с ним“. И все это происходит так стремительно, что мы не успеваем поверить в такую мгновенную перемену в героине. Хотя, похоже на то, что она изна-чально, в замысле, была уже вот такой, очень правильной. И пусть она говорит в финальном моно-логе столь же быстро исправивше-муся Федору: „Эх, счастливая наша жизнь молода-ая“, веришь в эту искусственную молодость с трудом» (Яранцев Вл. Вечная молодость Сейфуллиной // Сибир-ские огни. 2004. № 4. С. 190–191).
78 В 1956 г. Э. П. Гарин пред-принял попытку возобновления

Театрон [1•2012]
спектакля Мейерхольда по пьесе Н. Эрдмана «Мандат» в «Студии киноактера». Об этом спектакле и задают вопрос Л. С. Вивьену. По прошествии почти 50-ти лет кри-тик Е. Соколинский высказывает об этом возобновлении такое мнение: «Любимый актер Мейер-хольда, знаменитый Хлестаков, Чацкий, Гулячкин все-таки, ви-димо, многое не понимал и не принимал в творчестве своего учителя. „Мандат“, названный восстановлением спектакля 1925 года, был значительно подправ-лен „в сторону реализма“» (Со-колинский Е. [Рецензия]: В. Гудко-ва. Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спек-таклем «Список благодеяний»: Опыт театральной археологии //
Новая русская книга. 2002. № 2. С. 25).
79 Мария Алексеевна Воробьева-Мейерхольд (Валентей) (1924–2003) — дочь Татьяны Всеволодов-ны Мейерхольд, дочери Мейер-хольда от первого брака. М. А. Ва-лентей — лауреат Государственной премии России, с 1955 г. секретарь Комиссии по творческому насле-дию Мейерхольда, с 1991 г. до конца жизни директор Музея Мейерхольда в Москве. 10 января 1955 г. Татьяна Сергеевна Есенина (1918–1992), приемная дочь Мей-ерхольда, написала письмо в Совет министров СССР Г. М. Маленко-ву. После чего она и М. А. Вален-тей были вызваны к следователю Б. В. Ряжскому. С этого момента начался процесс по пересмотру
дела Мейерхольда, окончившийся его полной реабилитацией (см. об этом: Ряжский Б. В. Как шла реабилитация // Театральная жизнь. 1989. № 5. С. 8–11; Внучка Мейерхольда: Книга о жизни Ма-рии Алексеевны Валентей. М., 2009).
80 Имеется в виду Справка за № 4н—013973/55 от 30 ноября 1955 г., подписанная зам. предсе-дателя Военной Коллегии Верхов-ного Суда СССР полковником юстиции В. Борисоглебским, в которой значилось: «Приговор Военной Коллегии от 1-го февраля 1940 года в отношении Мейерхоль-да-Райха В. Э. по вновь открыв-шимся обстоятельствам отменен, и дело за отсутствием состава пре-ступления прекращено».

119
Авторы номера
Васильев Юрий Андреевич — кандидат искусствоведения, профессор кафедры сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.Контакты: e-mail [email protected]
Вивьен Леонид Сергеевич (1887–1966) — художественный руководитель Школы актерского мастерства (1918–1922), ректор Института сценических искусств (1922–1925), профессор кафедры режиссуры и актерского мастерства (1925–1957), заведую-щий кафедрой режиссуры (1957–1966) Ленинградского государствен-ного института театра, музыки и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства).
Евзлин Михаил — филолог, философ, культуролог.Контакты: e-mail [email protected]
Максимов Вадим Игоревич — доктор искусствоведения, заведующий кафедрой зарубежного ис-кусства Санкт-Петербургской государственной академии театраль-ного искусства.Контакты: e-mail [email protected]
Молодцова Майя Михайловна — кандидат искусствоведения, профессор кафедры зарубежного ис-кусства Санкт-Петербургской государственной академии театраль-ного искусства.Контакты: e-mail [email protected]
Некрасова Инна Анатольевна — кандидат искусствоведения, профессор кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.Контакты: e-mail [email protected]
Титова Галина Владимировна — доктор искусствоведения, профессор кафедры русского театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.Контакты: e-mail [email protected]
Ульянова Анна Борисовна — кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры ино-странных языков Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.Контакты: e-mail [email protected]
Юрьев Андрей Алексеевич — кандидат искусствоведения, доцент кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.Контакты: e-mail [email protected]

Authors
Yury Vasiljev — PhD (Arts), Professor, Speech and Voice Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.Contacts: e-mail [email protected]
Leonid Vivien (1887–1966) — Artistic Director of The School for Acting Art (1918–1922), Rector of the Institute for Stage Arts (1922–1925), Professor at the Dept. of Directing and Acting (1925–1957), Head of Dept. of Directing (1957–1966) at Leningrad State Institute of Theatre, Music and Cinema (present name: St. Petersburg State Theatre Arts Academy).
Mikhail Evzlin — philologist, philosopher, culture expert.Contacts: e-mail [email protected]
Vadim Maksimov — Dr. Sc. (Arts), Head of Dept. Foreign Art Studies Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.Contacts: e-mail [email protected]
Maya Molodtsova — PhD (Arts), professor, Foreign Art Studies Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.Contacts: e-mail [email protected]
Inna Nekrasova — PhD (Arts), professor, Foreign Art Studies Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.Contacts: e-mail [email protected]
Galina Titova — Dr. Sc. (Arts), professor at Dept. of Russian Theatre Studies, St. Peters-burg State Theatre Arts Academy.Contacts: e-mail [email protected]
Anna Ulianova — PhD (Arts), senior lecturer at Foreign Languages Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.Contacts: e-mail [email protected]
Andrey Yuriev — PhD (Arts), professor, Foreign Art Studies Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.Contacts: e-mail [email protected]

121
Аннотации
Максимов В. И.Трагическая форма в театре Велимира ХлебниковаСтатья продолжает рассмотрение задачи, поставленной в ряде работ автора, — проследить эволюцию трагической формы в модернистских художественных направлениях ХХ века. В данном случае — в русском футуризме. В сложной структуре футуристической драмы трагические и трагикомические аспекты занимают важнейшее место и вплетаются в модернистские принципы нового театра. Подробно анализируются пьеса Хлебникова «Девий бог» (1908–1911 гг.) и сверхповесть «Зангези» (1920–1922).Ключевые слова: футуризм, трагедия, трагическое, сверхдрама, катарсис, Велимир Хлебников.
Молодцова М. М.Римская Академия Помпония: театральные мечтания и сценические опытыВ статье рассматриваются первые опыты возрождения итальянскими гумани-стами конца XV века классического драматического спектакля на основе антич-ных латинских пьес; характеризуется вклад в сценическое искусство Ренес-санса выдающегося гуманиста Юлия Помпония Лэта и его последователей.Ключевые слова: Итальянский театр эпохи Возрождения, Римская Академия Помпония, классический спектакль, Юлий Помпоний Лэт, Томмазо Ингирами, Джованни Сульпицио да Вероли, Владимир Николаевич Забугин.
Некрасова И. А.Отцы-основатели театра иезуитовПредметом рассмотрения является начальный этап истории школьного театра иезуитских коллегий в странах Западной Европы — вторая половина XVI в. С 1550-х гг. представления, организованные педагогами коллегий, становятся значительным фактором развития драматического искусства многих стран. В этот период театр иезуитов еще не подчинялся строгим формальным правилам, и формирование его основных тенденций было связано с твор-ческими инициативами первых крупных драматургов-постановщиков, таких как П. П. де Асеведо в Испании, Л. Ла Крус в Португалии, Б. Стефонио в Ита-лии и других. На основе историко-театральных документов и драматургических текстов, впервые опубликованных западными учеными в конце ХХ — начале XXI вв., раскрываются художественные особенности выдающихся школьных спектаклей 1550–1600-х гг.; затрагиваются также проблемы взаимодействия иезуитского театра с профессиональным искусством эпохи.Ключевые слова: театр иезуитов, школьный спектакль, театр XVI в., неолатинская драма, П. П. де Асеведо, Л. Ла Крус, Б. Стефонио.

122
Евзлин М.Бунтующий бог в «Прикованном Прометее» ЭсхилаАнализируется греческий текст «Прикованного Прометея» Эсхила. Указыва-ются грубейшие искажения в переводе Адр. Пиотровского: следуя идеологи-ческой догме, он превращает демагога-кликушу в культурного героя и благо-детеля человечества. Трагедия рассматривается как анализ притязаний Прометея на знание законов Cудьбы, выявляющий их ложность как с практи-ческой, так и с теоретической стороны. Прометей представляется как создатель философии обмана, породившей самые зловещие идеологии. Внушая людям слепые надежды, Прометей ставит себя на место Судьбы, а дар огня становит-ся даром вечного рабства.Ключевые слова: Эсхил, Прометей, боги, демоны, люди, знание, обман, огонь, похищение, судьба, хитрость.
А. А. ЮрьевПервый «Кукольный дом»Во второй статье речь идет о самом спектакле копенгагенского Королевского теа-тра. Опираясь на рецензии, фотографии, режиссерский план спектакля и другие источники, автор анализирует постановку, наиболее подробно рассматривая ее сценографическое решение, а также исполнение Петером Йерндорфом роли доктора Ранка и интерпретацию Эмилем Поульсеном роли Хельмера.Ключевые слова: Хенрик Ибсен, «Кукольный дом», история датского театра, Ханс Петер Хольст, Петер Йерндорф, Эмиль Поульсен, Эдвард Брандес, Герман Банг.
Титова Г. В.«Горе уму», или «Комедия о хамстве»В статье продолжено изучение темы «Мейерхольд и Аполлон Григорьев». Первая ее часть посвящена анализу неудачи И. В. Ильинского в роли Фамусо-ва, вторая — сценической и творческой истории образа Репетилова в связи с трактовкой Мейерхольда.Ключевые слова: Мейерхольд, Ап. Григорьев, «Горе от ума», Фамусов, Репетилов, И. И. Сосницкий, Игорь Ильинский, Василий Зайчиков, маска, амплуа, биомеханика.
Ульянова А. Б.Драупади, Сита и другие: женское сольное исполнительское искусство нангьяр-куттуНангьяр-кутту (или кутху) — это женское сольное исполнение историй о Кришне в стиле храмового санскритского театра кудияттам. В наши дни в кудияттаме возрастает роль женщин-исполнительниц, которые возрождают на сцене забытые женские роли, пишут собственные тексты и даже импро-визируют. Начиная с первого представления на светской сцене в 1986 г.

нангьяр-кутту стал известен как в Индии, так и за ее пределами в качестве сольного исполнения актрисой отдельного эпизода санскритской пьесы. По-степенно нангьяр-кутту превращается в отдельную от кудияттама театральную форму.Ключевые слова: Индия, индийский театр, кудияттам, нангьяр-кутту, санскритская драма, женские роли, сольное исполнение.
Вивьен Л. С.<О «ЗАВЕТАХ» МЕЙЕРХОЛЬДА>Публикация, вступительная заметка и комментарии Ю. А. ВасильеваВоспроизведение стенограммы «Беседы со зрителями о В. Э Мейерхольде на-родного артиста СССР Л. С. Вивьена. 6-го февраля 1957 г.», хранящейся в архиве библиотеки санкт-петербургского отделения СТД. Автор рассказы-вает о времени работы Мейерхольда в Александринском театре, излагает свой взгляд на режиссуру Мейерхольда и значение его идей для русского и мирово-го театра. Во вступительной заметке и в комментариях раскрывается круг теа-тральных интересов Л. С. Вивьена в молодости, его творческие и личные от-ношения с Мейерхольдом. Публикация посвящается 125-летию со дня рождения Л. С. Вивьена.Ключевые слова: Всеволод Мейерхольд, Леонид Вивьен, Жан Вилар, Вера Комиссаржевская, Федор Шаляпин, Александринский и Мариинский театры в 1908–1918 гг., актерское искусство, режиссерское искусство, театральная педагогика.

124
Summary
Vadim MaximovTragic Form in Theatre of Velimir KhlebnikovIn series of articles this author has researched evolution of the tragic form in modernist art of the 20th century. The object of this paper is Russian futurism. Complicated structure of futuristic drama includes tragic and tragicomic aspects as its important part that is associated with the modernistic principles of the new theatre art. This paper provides elaborate analysis of the play Maid’s God (‘Devy Bog’, 1908–1911) and trans-novel Zangezi (1920–1922) by Velimir Khlebnikov.Key words: Futurism, Tragedy, Tragic, Superdrama, Catharsis, Khlebnikov.
Maia MolodtsovaAccademia Pomponiana: Dreams of Theatre and Performing PracticesObjects of research are first experiences of the reconstruction of the classical dramatic performance based on the ancient Latin plays provided by Italian humanists in the end of the 15th century, namely Julius Pomponius Laetus and his followers who made sufficient impact in dramatic art of the Renaissance.Key words: Italian Renaissance Theatre, Accademia Romana of Pomponius, classical performance, Tommaso Inghirami, Giovanni Sulpicio da Veroli, Vladimir Zabugin.
Inna NekrasovaFounders of the Jesuit theatreSubject of this research is the earliest period in history of the theatre of schools in Jesuit colleges in Western Europe in the second half of the 16th century. From 1550s the performances arranged by faculty of colleges become significant factor in development of dramatic art in many countries. During that period Jesuit theatre did not follow strict regulations, development of its tendencies relied much on the personal intentions of the playwrights and directors – namely Pedro Pablo de Acevedo in Spain, L. La Cruz in Portugal, Bernardino Stefonio in Italy et al. European researchers published documents of that theatre and texts of plays on the turn of the 20th and 21st centuries, so it is possible now to research the artistic features of performances in Jesuit schools in 1550–1600s and to understand interaction of that performances with professional art of this period.Key words: Jesuit theatre, school performance, 16th century theatre, neolatin drama, Pedro Pablo de Acevedo SJ, Luis La Cruz SJ, Bernardino Stefonio SJ.
Mikhail EvzlinThe rebel god in «Prometheus bound» by AeschylusThe article analyses the Greek text of «Prometheus bound» by Aeschylus.Some distortions in the translation by Adrian Piotrovsky are indicated. Following the ideological dogma, he transforms a vulgar demagogue in a cultural hero and

125
benefactor of mankind. The tragedy, considered as an analysis of Prometheus pretensions to know the laws of the Fate, reveals their falsity both on the practical and theoretical level. Prometheus is presented as the creator of the philosophy of fraud that generated the most sinister ideologies. Inspiring to the man «blind hopes», Prometheus puts himself in the place of the Fate — and the gift of fire becomes the gift of eternal slavery.Key words: Aeschylus, Prometheus, gods, demons, men, knowledge, deception, fire, stealing, fate, cunning.
Andrey A. YurievThe First A Doll’s HouseThe second article deals with the performance of the Royal Theatre in Copenhagen itself. Using the critical reviews, photos, the director’s notes and other sources, the author scrutinizes the scenography, Peter Jerndorff’s performance of Dr. Rank and Emil Poulsen’s interpretation of Helmer.Key words: Henrik Ibsen, A Doll’s House, History of Danish Theatre, Hans Peter Holst, Peter Jerndorff, Emil Poulsen, Edvard Brandes, Herman Bang.
Galina TitovaWoe To Wit, or The Comedy on LoutishnessThis is continuation of the research of a topic Meyerhold and Apollon Grigoryev. Two roles in the play by Griboedov and in production by Meyerhold are in focus: Famusov performed by Igor Ilyinsky, and Repetilov in the context its different interpretations in history and in Meyerhold’s production.Key words: Meyerhold, Apollon Grigoryev, Woe of Wit by Griboedov, Famusov, Repetilov, Ivan Sosnitsky, Igor Ilyinsky, Vasily Zaichikov, mask, emplois, Biomechanics.
Anna UlianovaDraupadi, Sita and others: women soloist performing art of the nangyar-kuttuNangyar kuttu (or kuthu) is the soloist narration of Sri Krishna’s life by a female character in the Kudiyattam style. Nowadays women’s creativity in Kudiyattam is increasing in different ways and actresses have taken in charge the revival of female characters on stage and thus have varying their representations. Since the first performance on a secular stage in 1986, nangyar kuttu has been known in India and abroad as a solo performance for women in the shape of a sanscrit play’s single episode. Nangiar kuttu is almost becoming a separate form, detached from Kudiyattam.Key words: India, Indian theatre, kudiyattam, nangyar kuttu, Sanskrit drama, female roles, soloist performance.

Leonid VivienOn Meyerhold’s TestamentsPublished by Yury Vasiljev with his introduction and commentsIt is the first publication of the short hand record of the lecture on Vsevolod Meyerhold by Leonid Vivien of February 6, 1957 from the archives of the library of St.Petersburg branch of Russian Theatre Union. The lecture tells about the period of Meyerhold’s work at Alexandrinsky Theatre, Vivien gives his overview of Meyerhold’s art of stage directing and impact of his ideas for the Russian and world theatre. Introduction and comments tell us about Vivien’s early life in theatre, about his relations in life and in creative work with Meyerhold. This publication is devoted to 125th anniversary of Leonid Vivien. Key words: Vsevolod Meyerhold, Leonid Vivien, Jean Vilar, Vera Komissarzhevskaya, Feodor Chaliapin, Alexandrinsky Theatre, Mariinsky Theatre, acting art, art of directing, theatre training.

В начале статьи помещаются инициалы и фамилия автора (авторов), название статьи, аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках) объемом до 800 знаков с пробелами.
Объем статьи от 10 до 40 тыс. знаков (включая пробелы).Текст должен быть представлен на страницах формата А 4, набранный
в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.rtf шрифтом Times New Roman, кеглем 14 pt. через один интервал. Отступ красной строки: в тексте — 12 мм, в затекстовых примечаниях (концевых сносках) отступы и выступы строк не даются. Точное количество знаков определяется через меню тек-стового редактора Microsoft Word (Сервис — Статистика — Учитывать все сноски).
Параметры документа: верхнее, нижнее и правое поля — 25 мм, левое поле 30 мм.
Затекстовые примечания оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
После затекстовых примечаний должна быть надпись: «Статья публи-куется впервые», ставится дата и авторучкой подпись автора (подпись сканируется в черно-белом режиме).
Далее следуют сведения об авторе (авторах) — на русском и английском языках, включающие Ф. И. О. (полностью), ученую степень, должность, место работы, контактные телефоны, адрес электронной почты.
Статью необходимо отправить либо по электронной почте: [email protected], либо в виде компьютерной распечатки на бумаге и прило-женного электронного носителя (диски CD-R, CD-RW) по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., дом 34.
Все статьи, представленные к публикации, проходят обязательное рецензирование Экспертным советом научного альманаха.
Для аспирантов и докторантов публикации статей бесплатны.
Требования к оформлению статьи в научном альманахе Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства «Театрон»

Уважаемые читатели!
Подписка на научный альманах Санкт-Петербургской государственной академии
театрального искусства «Театрон»принимается во всех отделениях связи
Подписной индекс в каталоге Роспечати81788
Подписано в печать 15.05.2012. Формат 70х100 1/16.Гарнитура Petersburg. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,4.Тираж 500 экз. Зак. тип. № 1303
Отпечатано в типографии ООО «Береста»196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28.